Бывал Брюллов и у Василия Андреевича Жуковского. Как воспитатель наследника престола, он имел квартиру на последнем этаже принадлежащего дворцу так называемого шепелевского дома, что помещался на месте нынешнего здания Эрмитажа с теребеневскими атлантами. У него чаще всего собирались по субботам. Здесь преобладали литераторы, из композиторов чаще других приходил Глинка, из художников Брюллов. Дамы приглашались редко, и только те, которые, по словам Глинки, «были доступны изящным искусствам». Шумно и многолюдно у него никогда не бывало. Непременным номером программы собраний значилось литературное чтение.
Наконец, еще один дом, чрезвычайно привлекательный и приятный не только для Брюллова, но и для всех людей искусства, — это дом Карамзиных. После смерти историка его вдова, Екатерина Андреевна, сестра Вяземского, и ее падчерица Софи Карамзина поселились вместе на Гагаринской улице, 16, против Пустого рынка. По словам современников, это был единственный дом, где говорили только по-русски и никогда не играли в карты. Специального приемного дня тут не было в заводе — постоянные гости, в числе которых современники называют Брюллова, могли приходить сюда, когда им заблагорассудится. Из дома Карамзиных апрельским днем 1841 года отбыл в свою последнюю ссылку на Кавказ Лермонтов. Перед отъездом, стоя у окна и глядя на весеннее петербургское небо, он сочинил горькие прощальные стихи: «Тучки небесные, вечные странники…»
Панаев так характеризует салон Карамзиных: «Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной — вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты». Эти слова Панаева весьма знаменательны. Причем их можно отнести не только к салону Карамзиных, но и Виельгорских, и Одоевского да почти что ко всем домам, о которых шла выше речь, ибо во всех них не только «выдавались дипломы на литературные таланты», в них вырабатывалось общественное мнение в вопросах искусства. В прежние времена — при Екатерине, при Павле I — высшее общество было неразрывно связано с придворной жизнью. Начиная с александровской поры столичное общество в большой мере освобождается от придворных влияний. Напротив, вкусы, мнения, даже понятия о морали, складывавшиеся в гостиных Зинаиды Волконской в Москве или Виельгорских в Петербурге, оказывают несомненное воздействие на вкусы и мнения придворных кругов и даже царской фамилии. Жуковский, Пушкин, Гоголь, Крылов, Брюллов обретают в обществе почетное место не по праву рождения, а по праву таланта. Впоследствии, когда в обществе не будет новых личностей, равных по образованию и передовым взглядам тем же Виельгорским, Одоевскому или Волконской, когда русское искусство будет переживать бурный процесс демократизации, салоны полностью утратят свое значение в формировании общественного мнения. В брюлловское же время было бы трудно, не заглядывая в иные светские гостиные, представить себе полную картину развития русской литературы и искусства.
Почти во всех салонах, где проводил вечера Карл, нередко бывал гостем и Александр Брюллов. Братья теперь все больше видятся на людях.
Александр в конце 1830-х — начале 1840-х годов переживает расцвет своего творчества. Его постройки следуют одна за другой: Пулковская обсерватория, Лютеранская церковь, служебный дом Мраморного дворца, отделка интерьеров Зимнего. Карл в это время, по сути дела, впервые вкушает горечь неудачи — срываются замыслы росписей обсерватории и Зимнего, постигает неудача с «Осадой». Александр поглощен мирными семейными заботами — у него жена, урожденная баронесса Раль, дети; он приобретает прекрасный большой дом неподалеку от Академии, на Кадетской линии. Карл после истории с неудачной женитьбой чувствует себя еще более одиноким и бездомным, чем когда бы то ни было. Александр покупает в Павловске дачу, хлопочет для своего рода дворянское достоинство. Его хлопотами и Карл возведен в дворянское сословие, но ему глубоко безразличны подобные почести и непонятна детская радость брата, выхлопотавшего уже лично для себя и герб: в лазоревом поле золотая колонна, поставленная на спину бобра, и стропило со звездою. Такие свойства натуры Александра, как размеренность, обстоятельность, сдержанность, столь чуждые характеру брата, с годами делались все более устойчивыми. Различие между понятиями и образом жизни не вело к сближению. Быть может, вовсе не случайно таким холодом веет от портрета Александра, написанного Карлом в 1841 году. Перед нами предстает совсем иной человек, мало напоминающий романтически взволнованного юношу из прежних портретов, созданных братом в Италии. Портрет написан в той же манере, в том же ключе, что заказные парадные портреты Голицына, Бек, Прянишникова и Оболенского. Та же обстоятельность в деталях: как на отмывке прилежного студента, «выточены» все завитки гипсового слепка с орнаментом, украшающего стол Александра, не упущен ни один световой блик на полированной поверхности металлической чаши, тщательно «пересчитаны» петли и пуговицы аккуратного сюртука, каждая складочка шелкового галстука, завязанного с умеренной небрежностью, не забыт орден, ясно читаемый на крахмальной белизне сорочки, даже план на листе чертежа, который архитектор готовится положить в папку, вычерчен четко и тщательно. Перед нами аккуратный, во всем прилично-умеренный, преуспевающий человек. И хотел того Карл Брюллов или нет, но в облике представленного им педанта ясно проступают черты хладнокровного самодовольства.
С тех пор как в 1843 году Брюллов начал работу над росписями Исаакиевского собора, он вплоть до 1847 года, когда болезнь вынудила оставить заказ, как всегда, одновременно трудится и над воплощением других замыслов. Однако портретов в этот период сделано сравнительно немного — портрет требовал встреч с людьми, работы с натуры и к тому же по возможности при дневном свете, а времени на это оставалось мало. Все же он создает несколько портретов, среди которых выделяются прекрасная акварель, где изображены юные сестры В. и Л. Трофимовы, и проникновенный портрет княгини М. Волконской — дочери Кикина; Брюллов уже писал ее — портрет девочки Кикиной был одним из самых первых его опытов в портретном жанре.
В эти годы он, для отдыха от тяжелой работы над росписями, много занимается восточными сценами и иллюстрациями, не требовавшими продолжительной работы с натуры. Впрочем, восточные сцены он делает в течение всех лет по возвращении в Петербург. Давно закончены «Любовное свидание в Турции», «Восточные бани», «Сцена в гареме». Сейчас он завершает сцену «По велению Аллаха раз в год меняется рубаха» из быта восточного гарема, задумывает многофигурную композицию «Сладкие воды близ Константинополя». Свое всегдашнее стремление к жанру он удовлетворяет в большой серии подобных акварелей и сепий. Вместо того чтобы попытаться найти сюжеты в окружающей его повседневной русской жизни, он без конца возвращается к воспоминаниям о своем пребывании на Востоке. Уехав в 1849 году из России, он и в Италии снова примется делать зарисовки и сцены, выхваченные из потока быстротекущей сегодняшней жизни. Почему же в России он ни разу не пытается окунуть свой карандаш в повседневную жизнь? На этот вопрос ответить нелегко. Ни в одном из своих высказываний он не касается этого, ни в одном из свидетельств современников мы тоже не найдем никакой подсказки, чтобы ответить на этот вопрос. По-видимому, он, видя блестящие начинания Федотова в бытовом жанре, не чувствует в себе сил для соперничества с ним в этом роде искусства. Вероятно, не меньшую роль играло и еще одно обстоятельство — его итальянские жанры, да и нынешние восточные сцены неизменно пронизаны радостной нарядностью, веселым юмором, хотя, скажем, сцены из жизни восточного гарема могли бы быть пронизаны и трагизмом бессмысленного бытия женщин, отгороженных от жизни, вынужденных убивать время в ожидании благосклонного взора повелителя. Но эта сторона темы ни разу не привлекла художника. Кажется, делая эти пустоватые, но всегда нарядно-красивые картинки, он ищет в этом занятии забвения от горьких размышлений, от печалей и забот, от российской действительности, не дававшей повода к безоблачно-радостным эмоциям. К тому же эти сценки как бы возвращали его в тот прекрасный период его собственной жизни, когда он, после триумфа «Помпеи», был в состоянии подъема, жил в счастливой, свойственной молодости уверенности, что все еще впереди — жизнь и вершины творческих свершений. Как бы там ни было, но долгие зимние вечера, порой прихватывая и часть ночи, он с наслаждением вырисовывает эти сценки, с удовольствием предаваясь прихотливой игре воображения. Именно воображения, потому что он и темы-то выбирает чаще всего такие, которые не могли основываться на его собственных впечатлениях, полученных во время пребывания в Турции — многие сцены связаны с жизнью гарема, где он, естественно, не бывал, а не с тем, что он видел на Востоке собственными глазами.
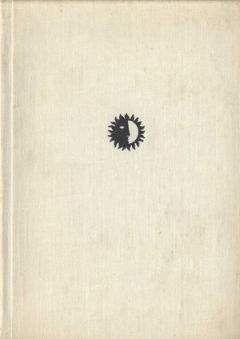

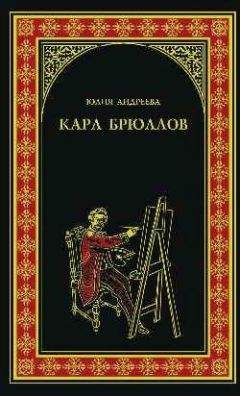
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
