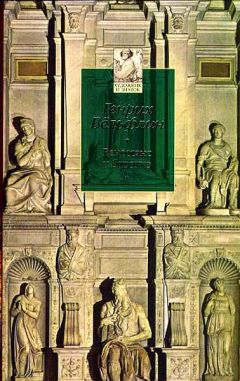Тут следует оставить в стороне все этические и политические оценки и анализ подобного типа изображений — они и без того достаточно очевидны. В данный момент важно отметить, что изображения, о которых идет речь, стали иконами современного коллективного воображения. Видео террористов и видео из тюрьмы Абу-Грейб занимают в нашем сознании и даже подсознании гораздо более существенное место, чем какое-либо произведение современного искусства. Подобное исключение художника из практики создания визуальных образов особенно болезненно для современной арт-системы, поскольку именно с начала Нового времени художники стремились быть радикальными, смелыми, нарушать табу и преодолевать любые преграды и границы. Дискурс искусства авангарда заимствует значительную часть своей терминологии из военной практики — включая, разумеется, само понятие авангарда. Так, ведется речь о подрывании норм, разрушении традиций, нарушении запретов, практике определенных стратегий, об атаке на существующие художественные институты и т. п. Из этого следует, что модернистское искусство не только иллюстрирует, превозносит или критикует войну, но и само принимает в ней участие. Художники классического авангарда считали себя агентами негации, разрушения и искоренения всех традиционных форм искусства. В соответствии с вдохновленной гегелевской диалектикой известной максимой «отрицать — значит создавать», которую также пропагандировали как «активный нигилизм» такие авторы, как Бакунин и Ницше, художники авангарда легитимировали создание новых икон путем разрушения старых. Произведение модернистского искусства оценивалось по степени его радикализма, по тому, как далеко зашел его автор в разрушении художественных традиций. Несмотря на то что модернизм тем временем неоднократно провозглашался устаревшим, критерий радикальности и в наши дни не утратил своей релевантности при оценке искусства. Худшее, что можно сказать о художнике, — это то, что его или ее искусство «безвредно».
Это означает, что современное искусство весьма неоднозначно относится к терроризму, к насилию. Отрицательное отношение художников к репрессивной власти государства считается само собой разумеющимся. Художники, следующие традициям модернизма, должны отстаивать суверенитет индивидуума против притеснений со стороны власти. Отношение же художника к индивидуальному и революционному насилию, к насилию как к радикальному утверждению суверенности индивидуума перед лицом государства, значительно сложнее. Глубокое внутреннее соответствие между модернистским искусством и революционным индивидуальным насилием имеет долгую историю. В обоих случаях радикальное отрицание приравнивается к аутентичному творчеству. Временами это соответствие принимает форму соперничества.
Следовательно, искусство и политика связаны, во всяком случае, в одном фундаментальном отношении: и там и там ведется борьба за признание. Как определил Александр Кожев в своих комментариях к Гегелю, борьба за признание превосходит обычную борьбу за распределение материальных благ, которое в наше время регулируется силами рынка. Центральным здесь оказывается не столько удовлетворение определенного желания, сколько признание его социально легитимным. В то время как политика является ареной, на которой групповые интересы по-прежнему продолжают бороться за признание, художники авангарда уже добились признания всех возможных индивидуальных форм и художественных практик, отрицавшихся в прошлом. Иными словами, классический авангард боролся за достижение признания всех визуальных знаков, форм и медиа законными объектами творческого желания и репрезентации. Обе формы борьбы нераздельно связаны друг с другом и обе направлены на достижение равных прав как для всех людей, так и для всех форм творчества. В контексте современности насилие является неотъемлемой составляющей этих двух форм борьбы.
Как пишет Дон Делилло в своем романе «Мао II», и террористы, и писатели вовлечены в одну и ту же игру: радикально отрицая существующее, и те и другие надеются создать повествование, которое покорило бы массовое воображение и привело к глобальным переменам. В этом смысле они являются соперниками. И, как отмечает Делилло, сегодня писатель оказывается в безусловном проигрыше, ибо современные медиа создают на основе террористических актов повествования, с которыми ни один писатель не в силах соперничать. Но, разумеется, подобное соперничество значительно более очевидно в случае художника, нежели писателя. Современный художник использует те же самые средства, что и террорист: фотографию, видео, кино. В то же время, очевидно, что художник не может зайти дальше террориста; художник не способен соревноваться с террористом в области радикальных жестов. В «Манифесте сюрреализма» Андре Бретон писал, что террористический акт стрельбы в мирную толпу по своей сути сюрреалистичен. Однако подобный акт меркнет по сравнению с тем, что происходит сегодня. В терминах символического обмена, каким его описали Марсель Мосс и Жорж Батай, это означает, что в соревновании в радикальности разрушения и саморазрушения искусство явно терпит поражение.
Но такой весьма популярный метод сопоставления искусства и терроризма, или искусства и войны, мне кажется глубоко ошибочным и ограниченным. И я постараюсь показать, почему. Авангардное модернистское искусство всегда было иконоборческим. В этом нет сомнения. Но можем ли мы сказать, что терроризм также является иконоборческим? Нет, терроризм скорее стоит на стороне иконофилии. Террористы и военные стараются создать «сильные» образы: образы, которые мы могли бы принять за «правду», за «реальность» в качестве «икон» настоящей скрытой и ужасной современной глобальной реальности. Я бы сказал, что эти образы являются иконами современной политической теологии, доминирующей в коллективном воображении. Их убедительность основана на специфической форме шантажа. Даже после долгих лет модернистской и постмодернистской критики образа, мимезиса, репрезентации мы продолжаем стыдиться утверждать, что изображения пыток и террора могут оказаться не настоящими или не отражающими действительность. Мы не можем сказать, что они не правдивы, так как знаем, что они стоили кому-то жизни.
Магритт может с легкостью утверждать, что нарисованное яблоко или трубка — не настоящие яблоко или трубка. Но как можем мы настаивать на том, что заснятое обезглавливание — не настоящее? Или что заснятый ритуал унижения в тюрьме Абу-Грейб — не настоящий ритуал? Таким образом, после многих лет критики репрезентации, направленной против наивной веры в кино— и фотоправду, мы снова готовы принять достоверность определенных фото— и видеообразов за безусловную истину.
Отсюда следует, что радикализм военных и террористов не совпадает с радикализмом художника. Первые никогда не практикуют иконоклазм. Напротив, они скорее стремятся укрепить веру в изображение, закрепить силу иконофилии, удовлетворить иконофилическое желание. Они принимают исключительные радикальные меры, чтобы положить конец иконоклазму и критике репрезентации. В их случае мы имеем дело со стратегией, которая с исторической точки зрения является весьма новой. Действительно, традиционно военные были заинтересованы в визуальных образах, которые обеспечивали им славу.
В противовес этому возникла традиция критики и деконструкции подобной стратегии идеализации. Однако современная военная изобразительная стратегия — это стратегия шока и ужаса, стратегия запугивания. Она стала возможной в результате долгой истории визуализации страха, жестокости и обезображивания в контексте модернистского искусства. Традиционная критика репрезентации была движима подозрением, что за поверхностью идеализированного образа скрывается нечто ужасное и уродливое. Именно его нам и демонстрируют современные военные — скрытое уродство, отображение наших собственных страхов и подозрений.
И именно поэтому мы склонны принимать эти изображения за правду. Они подтверждают наши худшие подозрения. Таким образом, у нас создается впечатление, что критика подошла к концу, что наша задача как критически мыслящих интеллектуалов выполнена. Теперь пришло время откровения и политической правды — мы можем наблюдать новые иконы политической теологии, не испытывая необходимости предпринимать какие-либо дальнейшие шаги и выявлять скрытое, поскольку эти иконы и сами по себе вполне ужасны. Достаточно уже только прокомментировать их, не переходя к критике. Этим объясняется мрачное очарование, нашедшее свое выражение во многих недавних публикациях, посвященных обсуждению изображений войны стерроризмом.
Вот почему я не верю, что террорист, будучи даже более радикальным, чем современный художник, может считаться его успешным соперником. Скорее я склонен рассматривать террориста или преследующего его военного как врагов современного художника, потому что они стремятся создавать визуальные образы, претендующие на правду, изображения, которые нельзя подвергнуть критике репрезентации. Образы террора и войны воспринимаются многими как ознаменование возвращения реального, как видимое доказательство конца критики изображения, каковой она практиковалась в прошлом веке. Мне кажется, что еще рано с ней прощаться. Разумеется, изображения, о которых идет речь, несут определенную эмпирическую правду: на них запечатлены конкретные события, их документальная ценность может быть проанализирована, исследована, подтверждена или опровергнута. Существуют определенные технические средства для установления, является ли тот или иной документ подлинным или поддельным. Но для нас важно различать эмпирическую правду и эмпирическое использование конкретного изображения (скажем, в качестве юридического доказательства), равно как и его символическую ценность в экономике медийного и символического обмена.