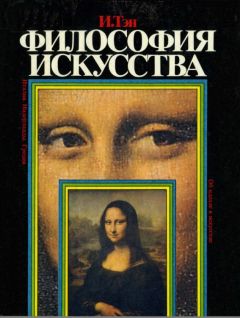Но сама Паллада распространяла лучезарный блеск свой вокруг; тут не требовалось ни размышлений, ни науки, нужны были только глаза и сердце поэта или художника, чтобы подметить родство богини с окружающими предметами, чтобы почувствовать ее присутствие в великолепии сияющей атмосферы, в ярком, быстро разливающемся свете, в чистоте этого легкого воздуха, которому афиняне приписывали живость своего творчества и своего гения: сама она была гением страны, духом живущего здесь народа; ее-то дары, ее вдохновение, ее создание видели они повсюду вокруг себя, докуда хватал глаз, — в полях, покрытых масличными деревьями, в испещренных нивами косогорах, в трех пристанях, где дымились арсеналы и теснились разнородные суда, в длинных и крепких стенах, которыми город соединялся с морем, в красоте самого города, который своими храмами, гимназиями, театрами, своим Пниксом, всеми пересозданными памятниками и вновь выстроенными домами одевал хребты и скаты холмов и который своими искусствами, промышленностью, празднествами, своей изобретательностью и своим неутомимым мужеством сделался ’’школой для всей Греции”, распространил свое господство на все сплошь море и свое господствующее влияние на весь греческий народ.
В эти минуты могли раскрыться двери Парфенона и показать среди бездны приношений, ваз, венков, доспехов, колчанов со стрелами и серебряных масок колоссальное изваяние, покровительницу, победоносную деву, стоящую неподвижно во весь рост с копьем на плече и щитом, поставленным сбоку, с Победой из золота и слоновой кости в правой руке, с золотой эгидой на груди и узким золотым шлемом на голове, в длинном золотом одеянии разнообразных оттенков; ее лицо, ноги, руки, плечи выделяются из блеска одежды и оружия теплою, живою белизной слоновой кости, а светлые глаза из блестящего драгоценного камня неподвижно горят в полумраке расписанной целлы. Конечно, измышляя ее ясное, божественное выражение, Фидий задумал силу, мощь, выходящую за все человеческие пределы, одну из тех мировых сил, которые правят ходом всех вещей в природе, тот вечно деятельный разум, который был в Афинах истинною душой страны. Быть может, звучал в его сердце отголосок той новой тогда физики и философии, которые, смешивая еще дух и вещество, смотрели на мысль как на ’’легчайшую и чистейшую из субстанций”, род тонкого эфира, распространенного повсюду и везде для порождения и поддержания порядка в целом мире[122]; так сложилась у него идея, еще превысившая народную: его Паллада превосходила столь важную, уже эгинскую, всем величием того, что вечно. Длинным обходом и все более и более сближающимися кругами проследили мы все зачатки греческой статуи и пришли наконец к той пустоте, которая видна еще и поныне, к тому месту, где возвышалось ее подножие и откуда исчезла величественная ее форма.
(Посвящается Сен-Бёву)
Предмет и способ этого исследования. — Значение слова идеал.
Милостивые Государи!
Предмет, о котором я буду с вами беседовать, по-видимому, только и доступен одной поэзии. Когда говорят об идеале, говорят языком сердца, души; мысль полна тогда прекрасной неопределенной грезы, которою выражается чувство самое заветное; его высказывают разве только полушепотом, с каким-то сдержанным восторгом; если же рассуждают о нем громко, во всеуслышание, то уж не иначе как в какой-нибудь кантате, в стихах; к нему прикасаются только кончиками пальцев или сложивши руки, как бы на молитву, когда речь идет о счастии, о небе, о любви. Что до нас, мы, по своему обыкновению, станем изучать его, как натуралисты, методически, путем анализа и постараемся прийти не к оде, а к закону.
Надо, во-первых, уразуметь слово идеал; грамматически объяснить его нетрудно. Припомним себе определение художественного создания, найденное нами в начале этого курса. Мы сказали, что художественное произведение имеет целью проявить какой-нибудь существенный или выдающийся характер полнее и яснее, нежели он проявляется в действительных предметах. Для этого художник составляет себе идею того характера и по идее преобразует действительный предмет. Преобразованный на этом основании, предмет становится соответствен идее, другими словами — идеален. Итак, вещи переходят из реальных в идеальные, когда артист воспроизводит их, преобразуя по своей идее; преобразует же он их по своей идее тогда, когда, постигнув в них какой-нибудь особенно заметный характер и выделив его из среды других, он систематически видоизменяет естественные соотношения частей их именно с тем, чтобы выдвинуть этот характер более на вид и придать ему более господствующее значение.
I
Кажется, будто все характеры одинаково ценны. — Логические основания. — Исторические основания. — Различные способы обработки одного и того же сюжета. — В литературе — типы скряги, отца, любовников. — В живописи — картины: Иисус в Эммаусе Рембрандта и Веронезе, мифологические картины Рафаэля и Рубенса, Леды Леонардо да Винчи, Микеланджело и Корреджо. — Безусловная ценность всех значительных характеров.
Между идеями, влагаемыми художником в свои образы, есть ли идеи сравнительно высшие? Можно ли указать в них на характер, который был бы сравнительно лучше других? Существует ли для каждого предмета известная идеальная форма, вне которой все становится уклонением или ошибкой? Можно ли раскрыть закон подчинения, который определял бы иерархически места или ранги различным художественным произведениям?
С первого взгляда кажется, как будто нет; найденное нами определение, по-видимому, преграждает путь к подобного рода исследованию; оно наводит на мысль, что все художественные произведения стоят друг к другу в уровень и что личному произволу открыт здесь полнейший простор. В самом деле, коль скоро предмет становится идеальным по тому лишь одному, что вообще отвечает идее, то все равно, какова она ни будь, выбор вполне зависит от художника: он изберет то или другое по своему вкусу, и нам нечего тут возразить. Один и тот же сюжет можно обделать так или совершенно иначе, или, наконец, на все посредствующие между этими двумя крайностями лады. Мало того, история тут заодно с логикой, и эта теория прямо подтверждается фактами. Всмотритесь в разные века, в разные народы, в разные школы. Художники, рознясь племенем, духом и воспитанием, различно и поражаются одним и тем же предметом: каждый видит его со своей точки зрения, каждый подмечает в нем какой-нибудь новый характер, каждый составляет себе о нем своеобразное понятие, и это понятие, эта идея, воплощенная в новом создании искусства, вдруг воздвигают в галерее идеальных форм новое, изящное произведение, как нового бога на том самом Олимпе, который считался уже полным и без него. Плавт вывел на сцену бедного скрягу Эвклиона; Мольер берет тот же опять характер и создает Гарпагона, богатого скупца. Спустя два века скупец, уже неглупый и неподымаемый на смех, а, напротив, грозный и торжествующий, превращается под рукой Бальзака в отца Гранде, и тот же скупой, перенесенный из своей провинции в столицу, ставший парижанином, космополитом и поэтом-приживальщиком, доставляет тому же опять Бальзаку тип ростовщика Гобсека. Одно и то же положение отца, обижаемого неблагодарными детьми, вызвало последовательно Софоклова Эдипа в Колоне, Шекспирова короля Лира и Бальзакова отца Горио. Все романы и все театральные пьесы представляют молодого человека и молодую женщину влюбленными и стремящимися к браку; но в какой бездне разнообразных лиц являлась эта чета, начиная от Шекспира до Диккенса и от г-жи де Лафайет до Жорж Санд! Итак, влюбленные, отец, скряга, все вообще крупные типы, постоянно могут быть возобновляемы; они беспрерывно менялись до сих пор, да будут меняться и в будущем: изобретать, выходя за черту условности и предания, — именно и есть настоящий признак, единственная слава и как бы родовая обязанность истинного гения.
Если после литературных произведений мы взглянем на пластические искусства, то право свободно выбирать тот или другой характер окажется тут еще более установившимся. Несколько лиц и сцен евангелических или мифологических, можно сказать, одни давали сюжеты любой великой художественной школе, свобода выбора художника явно обнаруживается здесь и в разнообразии произведений, и в большом успехе. Мы не дерзнем превознесть одно перед другим, поставить одно совершенное произведение выше другого, также совершенного, не дерзнем сказать, что надо более держаться Рембрандта, чем Веронезе, или Веронезе более, чем Рембрандта. И посмотрите, однако ж, какой между ними контраст! В картине Эммаусская трапеза Христос у Рембрандта[123] изображен только что воскресшим, — мертвенное, желтое, страдальческое лицо, испытавшее могильный холод; грустный, полный соболезнования взор Его останавливается еще раз на бедствиях человеческих; близ Него два ученика, старые, утомившиеся труженики, с лысыми, убеленными сединой головами; они сидят у харчевенного стола; мальчишка-дворник глядит на них с глупым выражением, голова Распятого пришельца с того света окружена чудным неземным сиянием. В картине Христос со ста флоринами (le Christ aux cent florins) та же идея проявляется опять еще сильнее: это именно Христос простонародия. Спаситель бедных, Он стоит в одном из тех фламандских подвалов, где некогда молились и ткали гонимые лолларды; нищие в лохмотьях, лазаретные бедняки простирают к Нему умоляющие руки; неуклюжая крестьянка на коленях не сводит с Него своих полных глубокой веры широко раскрытых глаз; подвозят лежащего поперек тележки расслабленного: дырявые лохмотья, ветхие, засаленные и выцветшие от непогоды плащи, золотушные или изувеченные, бледные, изнеможенные или оживотненные лица, жалкое сборище отверженцев и больных, нечто вроде подонков человечества, на которых счастливцы того времени, толстобрюхий бургомистр, зажиточный разжиревший горожанин, смотрят с наглым равнодушием, но над которыми всеблагой Христос распростирает свои исцеляющие руки, а сверхъестественное Его сияние проницает между тем полумрак и отражается даже на заплесневелых стенах. Если бедность, горе и темнота, сквозь которую едва мерцают лучи света, могли доставить истинно художественные произведения, то богатство, веселье, теплый и смеющийся свет белого дня доставляют, в свою очередь, такое же произведение. Присмотритесь в Венеции и в Лувре к трем картинам Веронезе, изображающим Христа за трапезой. Необъятное небо высится над целой архитектурой баляс, колоннад и статуй; блестящая белизна и пестрые узоры мраморов обрамляют сборище мужчин и женщин за веселым пиром; это — пышное венецианское празднество, и притом именно XVI столетия; посреди находится Христос, а длинными рядами вокруг него едят и посмеиваются вельможи в шелковых епанчах, принцессы в парчовых платьях, между тем как левретки, маленькие негритята, карлики, музыканты забавляют зрение и слух присутствующих. Черные с серебром симарры стелются волною рядом с шитыми золотом бархатными юбками; кружевные воротнички охватывают атласную белизну шей; в русых косах светятся жемчуга; цветущие румянцы выдают силу молодой крови, легко и обильно текущей в здоровых жилах; умные, оживленные лица вот-вот готовы улыбнуться; на серебристом или розоватом лоске общего колорита — желтизна золота, яркая синь, огнистый багрянец, полосатая зелень, все эти разорванные и сливающиеся, однако, тоны своей чудной и изящной гармонией дополняют поэзию аристократической сладострастной роскоши. С другой стороны, что, скажите, может быть определеннее языческого Олимпа? Литература и ваяние греков вполне установили его тип: в сфере его, кажется, воспрещено всякое нововведение, всякая форма строго обозначена, какому бы то ни было вымыслу прегражден решительно всякий путь. И, однако ж, каждый живописец, перенося его к себе на холст, придает в нем преобладание тому характеру, который прежде не был замечен. Рафаэлевский Парнас представляет нашим глазам прекрасных молодых женщин с совершенно человеческой кротостью и грацией, Аполлона, который, возведя глаза к небу, забывается, вслушиваясь в звуки своей кифары; архитектуру, подчиненную мерным, спокойным формам; скромную наготу, подчеркнутую еще больше трезвостью и почти тусклостью общего тона фрески. Рубенс замышляет такое же создание с противоположными, однако, характерами. Его мифологические картины, бесспорно, всего менее античны. В его руках греческие божества превращаются в лимфатических, полнокровных фламандцев, а его небесные праздники похожи на маски (или машкары), какие Бен Джонсон устраивал в ту же самую пору при дворе Якова I: смелая до дерзости нагота, еще более усиленная блеском ниспадающих драпировок; жирные и белые Венеры, удерживающие своих любовников разгульным жестом куртизанки; плутовские лица смеющихся церер, мясистые, трепетные спины сирен, как нарочно скрученных в такую позу, полные неги извивы живого, гибкого тела, неистовость похотливых порывов, великолепная выставка разнузданного, торжествующего сладострастия, поддерживаемого темпераментом и недоступного внушениям совести, — сладострастия, которое, не выходя из пределов животного чувства, становится поэтическим и — небывалый, можно сказать, факт! — соединяет в своем упоении весь разгул первобытной природы со всей роскошью цивилизации. Тут достигнута опять одна из вершин искусства: ’’колоссальное веселье покрывает и увлекает все, нидерландский Титан обладал такими могучими крыльями, что взлетел чуть не к самому солнцу, хотя целые пуды голландского сыра были привешены к его ногам”[124]. Если, наконец, вместо того чтобы сравнивать двух художников разных стран, вы ограничитесь одной какой-нибудь нацией, то вспомните описанные вам мною произведения итальянцев: эти многочисленные Распятия, Рождества, Благовещения, этих Мадонн с младенцем, эту бездну Юпитеров, Аполлонов, Венер и Диан, а для придания большей точности своим воспоминаниям возьмите лучше одну и ту же сцену, последовательно обработанную кистью трех разных мастеров: Леонардо да Винчи, Микеланджело и Корреджо. Я говорю об их Ледах, известных вам по крайней мере из гравюр. Леда Леонардо стоит стыдливая, опустив глаза, и гибкие, змеистые линии ее тела извиваются с высоким утонченным изяществом; настоящим супругом лебедь почти человечески охватывает ее крылом, а маленькие близнецы, вылупляющиеся из яйца подле, даже и глядят-то по-птичьи, искоса; тайна первобытных времен, глубокое родство между человеком и животным, смутное язычески-философское чутье единой и всемирной жизни нигде не выразились с такой мастерской изысканностью и не обнаружили так вещей догадки столь проницательного и вдумчивого вместе гения. Напротив, Леда Микеланджело — царица колоссальной и воинственной расы, сестра одной из тех чудных дев, которые отдыхают, усталые, в капелле Медичей или мучительно пробуждаются, чтобы возобновить жизненную битву; ее крупное удлиненное тело наделено такими же мышцами и таким же вообще строением; щеки ее худы; в ней нет ни малейшего следа веселья, ни увлечения; даже и в подобный миг она серьезна, почти сурова. Трагическая душа Микеланджело движет эти мощные части, подъемлет этот героический торс и сдвигает этот неподвижный взгляд под нахмуренными бровями. Но вот век повернул в сторону, и мужественные чувства уступают чувствам женственным. У Корреджо сцена превращается в купальню молодых девиц под нежной, кроткой зеленью деревьев, среди журчания и блеска быстрых вод. Все тут очаровывает и манит; мечта блаженства, пленительная грация, полнейшее сладострастие никогда не прельщали и не волновали сердца языком столь вкрадчивым и живым. Краса тела и голов не отличается благородством, но она полна ласки и привлекательности. Круглые и смеющиеся, эти лица лоснятся, как цветки, облитые вешним солнцем; свежесть самой свежей юности скрепляет нежную белизну их пропитанного светом тела. Одна, белокурая, приветливая, легким станом и прической напоминающая молодого мальчика, отстраняет лебедя от себя прочь; другая, миниатюрная, миленькая, шаловливая, держит наготове сорочку; подруга входит в нее, как в сеть, но чуть облекающая ее воздушная ткань не скроет от наших глаз полных очертаний красивого ее тела; далее шалуньи, каждая с небольшим лбом, с пухлыми губками и круглым подбородком, играют в воде, обнаруживая кто своевольство, кто нежность в своем разгуле; Леда увлеклась до того, что отдается : видимой радостью, улыбается, замирает от восторга, и роскошное, упоительное ощущение, веющее ото всей этой сцены, достигает высшего своего предела в ее экстазе и в ее замирании.