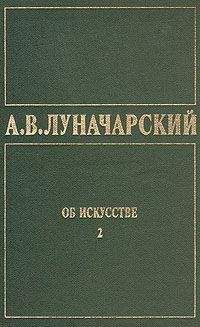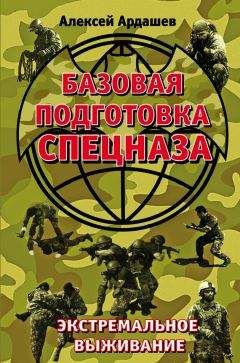Но только ли эти цели должны мы преследовать? Можем ли мы остановиться на том, что картинная галерея, поскольку она отражает искусство прошлого, является книгой по истории человеческой культуры, а поскольку она отражает современное искусство, есть книга по политике современности? Нет, мы должны относиться к использованию художественных ценностей глубже. Именно постольку, поскольку искусство является особой формой обработки содержания, заложенного в нем, мы должны обратить внимание, и очень глубокое, на формальную сторону, на ту роль, которую в искусстве играет, с одной стороны, формально–эстетический принцип красоты и, с другой стороны, — более близкий к содержанию, эстетически оформляющий принцип выразительности.
Вновь и вновь возникает представление, что красота есть доминирующее понятие в искусстве. Я сейчас не могу делать психофизиологический анализ этого понятия — для этого понадобилась бы отдельная лекция; скажу только, что речь идет о таком подходе к созданию определенного, волнующего человеческое сознание объекта, при котором берутся по преимуществу положительные элементы, то есть не всякие комбинации элементов, а комбинации гармонические. При этом приятен человеку по физиологическим условиям бывает не только материал (краски, музыкальные звуки и т. д.), из которого создается произведение, но и биологическое и социальное содержание произведения. Так, биологически приятен красивый человек, красивый ребенок, красивое животное — здесь эффект красоты определяется эмоцией, которая получается вследствие того, что мы воспринимаем явления симпатически, то есть переживаем в себе, отраженно в чувстве, то, что мы видим. Прекрасно нарисованная рана вызывает трагическое представление о глубоком страдании, а изображение цветущей, утверждающейся жизни, легко побеждающей все препятствия, определяют как прекрасное, грациозное. Н. Г. Чернышевский, нисколько не будучи формалистом, заявлял, что это и есть кульминационный пункт искусства.
Я сказал уже, что есть не биологические, а социальные моменты, которые можно считать красивыми; но, конечно, один зритель воспримет их как положительные, другой — как отрицательные. Художник часто стремится поэтому изыскать такую красоту, которая никого не шокирует, — например, изображает здоровую мать со здоровым ребенком, или социально–бытовые моменты, свидетельствующие о мире между людьми, — отдых после работы, дружескую попойку. Правда, человек, особенно боевым образом настроенный, скажет: «Зачем мне эта чепуха, этот мармелад?» Но это уж специфическое настроение, и мармелад остается вкусным для множества люден, даже если другие его не любят. В этой области в периоды подъема могут достигаться также огромные результаты, и когда они доходят до кульминации, то имеют в себе кроме приятности или прелести нечто величавое, интеллектуально мощное, одухотворенное — Erliabenes, как говорил Маркс. Лишь в тех случаях, когда мы имеем падение (допустим, при переходе от художников типа Перуджино к художникам типа Бронзино), преобладает красивость внешняя, в некоторой степени пустая. Выражения высокого интеллекта и напряженного чувства тогда в искусстве нет, величавое спокойствие, которое оправдано действительно большим жизненным содержанием, исчезает, и получается некоторое пустое безразличие, порой нечто маскообразное. Но и в эти плохие времена истории искусства некоторые произведения достигают необычайной красоты. Тарас Шевченко — крестьянин–революционер, человек огромной заряженности социальным чувством и прекрасный художник, — сказал, например, что настоящая красота взошла на небо искусства с картиной Гвидо Ренп «Аврора»; между тем это произведение свидетельствует не о возрождении, а об упадке искусства. Этот упадок сопровождается, однако, у Гвидо Рени таким огромным живописным совер шенстиом, что н такой человек, как Шевченко, восхвалял ее и падал перед ней ниц, как перед шедевром.
Вывод: и эти формы красоты есть красота. Мы не стремимся к ним, мы совсем не этого хотим, мы хотим другого, но и эти формы все–таки бесспорно красивы. Возражает против того, что это красиво, либо тот человек, чей разум сверх всякой меры взволнован в данное время борьбой, либо человек неискренний, притворяющийся суровым аскетом. Небезызвестна картина, где изображена, по мысли автора, комсомолка такая, какой она должна быть в представлении «вполне последовательного комсомольца», который считает красоту вообще элементом буржуазным; действительно, па этой картине комсомолка изображена довольно отвратительным существом, а рядом нарисована буржуазная женщина, награжденная всеми буржуазными прелестями, которые должны, по замыслу автора, отвратить «хорошего комсомольца». Один из критиков сказал, и совершенно справедливо: врет автор, ему гораздо больше нравится вот эта буржуазная женщина.
Даже в эпохи, когда гораздо больше требуется другое — эпохи революционные, — есть огромнейшая убедительность в непосредственной, здоровой, самодовлеющей красоте.
К какому бы классу ни принадлежал человек, но если он голоден, он хочет есть. Не так обстоит дело, что буржуа–подлец любит поесть, когда голоден, а пролетарий — нет. Каждый человек может сказать: если меня резать, у меня потечет кровь, независимо от того, к какому классу я принадлежу. То же относится к непосредственному чувству, которое нас притягивает к максимальному выражению красоты, и если бы мы эту силу сумели внести в наше собственное творчество, в этом не было бы ничего плохого — наоборот, это было бы очень хорошо, потому что и мы отмечаем как нечто положительное, как большое достоинство в области искусства красоту в собственном смысле слова.
Выразительность, которую мы считаем необходимой и в высшей степени ценной для нашего искусства, распространяет свое воздействие также далеко за пределы классового содержания, с которым она связана в том пли другом произведении.
В произведениях художников прошлого встречается необычайная яр кость выражения мысли и чувства, которая может быть уроком вырази тельности для нашего собственного искусства; на этих высоких примерах выразительности можно научить и зрителя и творца–художника пользовать ся ею. У нашей революционной армии есть целый ряд маршей, которые служили раньше царской армии. Марсельеза сейчас — официальный гимн империалистической Франции, но выразительность ее от этого нисколько не упала…
В чисто инструментальном исполнении Марсельезы это еще ярче бросается в глаза, потому что инструментальная музыка не только не имеет слов, как не имеет их живопись, но лишена и зрительных образов. Но для того, чтобы пролетариат эту музыку воспринял как свою, нужно было, чтобы класс, чьим идейным выражением она первоначально была, находился в кульминационном моменте своего развития. Если бы это был класс упадочный, то гнев его оказался бы весьма мизерным, слезливым, превратился бы в бутаду * — грозного, героического гнева вы у разлагающегося класса не найдете. Но и непосредственно в предреволюционную эпоху у нас в XX веке, при общем падении искусства благодаря некоторым особенностям развития нашего общества и ходу истории в Западной Европе, в то же время возникла музыка Скрябина, являющаяся выражением огромной героической кульминации, несомненно заражающая нашего слушателя.
* Бутада (франц. boutade) — преувеличение.
(Примеч. сост.)
Высокий подъем интереса к картинам передвижников объясняется тем что они просты в своей выразительности, тем, что они не требуют особенно сложных усилий для того, чтобы можно было проникнуть внутрь композиции, нащупать ее сердце, тем, что при своей простоте они достигают большого эффекта в выражении человеческих чувств и умеют сконцентрировать – эмоции на определенном объекте, и, наконец, тем, что они выражают вещи, в значительной мере нам родственные. Правда, основой их творчества является разной формы и разных поясов народничество, но ведь народничество–50—70–х годов было известным этапом в истории развития нашей революции, и хотя позднее мы боролись с эпигонами народничества, но никогда от революционного народничества, как от нашего предка, не отрекались. Характерно, что то, что очень нравилось Чернышевскому, нравилось и Владимиру Ильичу; нет таких художественных произведений, которые высоко ценил бы Чернышевский и которые не оказывали большого влияния на Ленина — ив литературе и в музыке. Я не говорю, что искусство передвижников есть высший пункт искусства, что это есть именно то, что нужно пролетариату. Наше время должно создать более высокие, чисто пролетарские образы, и должно создать мастерство более совершенное. Но интерес массового зрителя к произведениям передвижников понятен — и для нас, искусствоведов, он поучителен.
Овладение культурой прошлого заключается в том, чтобы прошлое было для нас не историей только, а современной, действующей силой, чтобы слова «классическое искусство» означали созданные прошлыми поколениями произведения, красота и выразительность которых остаются красотой и выразительностью, то есть живой силой, и для нас.