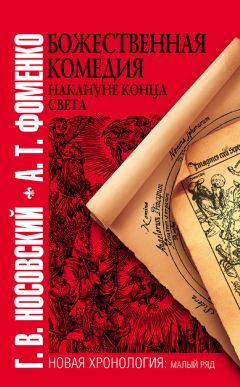В своих высоких устремлениях молодой Ибсен видел себя не только великим поэтом, но и вождем нации и проповедником. Он писал, что хочет научить норвежский народ мыслить гордо.
Но так как он не обладал талантом трибуна, он пошел окольным путем, стал писателем. С того момента, как он почувствовал уверенность в своем искусстве, тон вождя звучит все явственнее. В "Бранде", "Пер Гюнте", "Столпах общества", "Кукольном доме", "Привидениях", "Враге народа" мы чувствуем волю вождя и слышим голос проповедника. Мы видим поэта, который поставил своей целью по крайней мере стать моральным судией и оракулом нации.
Но это вовсе не проповедь Толстого и не национальные экзальтации Достоевского — это не "вторая щека", а пощечина, не "всечеловечность", а "изгнание бесов", не "воспитание нации", а желание пробудить каждого человека.
Чтобы правильно оценить то огромное влияние, которое оказал "Бранд", следует помнить, что пьеса появилась в разгар бурного расцвета индивидуализма в общественной и духовной жизни. "Бранд" сделал отдельного человека тем центром, вокруг которого должен был вертеться весь мир, и с такой силой привнес в сознание людей требование к личности, как этого никто не делал раньше, а совесть отдельного индивида превратил в поле боя, где предстояло решать все проблемы.
О чем Бранд? Воспроизвести, пересказать поэму и пьесу нельзя, как нельзя пересказать миф. Главное здесь не внешнее Действие, а подтекст, обращенный к подсознанию внутренний диалог автора с самим собой, одновременно самоутверждение долго подавляемого индивидуального духа и предостережение об опасности "вождизма" и "заратустризма".
"Бранд" приобретает огромный смысл, если мы представим, как Ибсен словно бы стукнул по столу и крикнул сам себе: ты так долго шел на поводу у других, шел наугад, неуверенно, постоянно ощущая опасность, и вот ты осмелился сделать то-то и то-то; ты так долго вмещал в себя и частицу большого, и частицу малого, частицу дурного и частицу хорошего. Теперь жизнь пойдет по-другому! Теперь ты вырвешься вперед и станешь Ибсеном, даже если Бог и черт объединятся против тебя!
Но это далеко не единственное и далеко не исчерпывающее прочтение! Да, действительно, в до предела насыщенном диалоге с самим собой, свидетелями которого мы становимся, в диалоге, делающем всех персонажей внутренними голосами их творца, мы слышим, что призвание Божие поглощает Бранда целиком, без остатка. Бранд-Ибсен требует, чтобы и другие жертвовали всем, если Бог внутренний голос — подсказывает им это, вместе с тем он, пророк, проповедник и герой, несет всем несчастье, в том числе самым близким — матери, возлюбленной, самому себе. Пророчества, проповеди и герои опасны, говорит Ибсен.
Конечно, Бранд — только часть Ибсена, но очень важная часть, разве что лишенная той амбивалентности, от которой он пытался избавиться, но, к счастью, не смог. Бранд лишен ибсеновской парадоксальности, спонтанности, противоречивости и тем опасен.
Первоначально Ибсен задумал написать Бранда в форме поэмы и создал первые ее песни — так называемого Эпического Бранда, из которого я привел введение, обращенное "к совиновным". Затем драматург взял верх над поэтом, и в результате появилась одна из самых великих пьес, в которой, как в джойсовском Улиссе, есть гневные филиппики в адрес своего народа; идея крушения Великих Идей, для осуществления которых не считаются с жизнью и счастьем других людей, когда цель оправдывает средства; проблема имманентной зависимости личности от рода, наследования вины, невыполненного долга, ответственности; широкое символическое изображение мировой истории; развенчание вождя и толпы и т. д. и т. п.
Каждая отдельная жизнь бесконечными нитями связана с жизнями иных, и эти глубоко сокрытые взаимосвязи требуют величайшей осторожности и ответственности — не только за собственные дела, но и за деяния близких, родителей, детей, окружающих. Одно преступление неизбежно наслаивается на другое, грань между унаследованной и собственной виной зыбка и неопределенна.
Своим острием пьеса направлена против идей Ренессанса, Просвещения, против человека-чистой доски, против доктрины прогресса, против героев и толпы. Собственно, на переднем плане (а в драме — множество сюжетных пластов) — столкновение непреклонного проповедника (им мог бы быть вождь, мудрец, великий художник) и паствы. Цель Бранда — та же, что у Вольтера или Дидро, разве что в религиозной оболочке: воспитать, вылепить нового, цельного и последовательного человека, но цель эта абсурдна и недостижима. Обман — "чистая доска", обман — прогресс, обман — равенство, обман безоблачное счастье, обман — всеобщая любовь.
Среди множества символов особое место занимает брандовские "горы и долины": по Бранду в современном обществе господствует низкий, утилитарный "дух долины", а "горный дух" присутствует лишь в отдельные моменты душевного "вознесения", позволяющие мещанину считать себя причастным к высшим сферам бытия. Между тем цель Бранда состоит именно в том, чтобы уничтожить различие между "долиной" и "горами". Но это — тоже утопия. Требование Бранда-Заратустры "всё или ничего", моральный абсолютизм не менее опасны, чем моральный релятивизм. Строя новую церковь, Бранд вносит в нее пороки старой, лишь меняя внешнюю форму лжи, которой прикрывается современное общество. В маленькой церкви — маленькая ложь, в большой — большая.
Разлитое по всей драме стремление к чуду и предвкушение чуда как бы реализуются в финале, причем эта реализация крайне облегчается наличием эмоционального апогея пьесы в сцене обращения к Народу. Библейский, "пророческий колорит Бранда" в предшествующих сценах, возвышенный экстатический тембр позволяют осуществить переход к открыто "пророческим", мистическим сценам — так сказать, к мистерии — без нарушения художественного единства пьесы.
Народ узнает от Бранда, что победа достижима лишь как итог целой жизни, посвященной неустанной борьбе, что никакой непосредственной награды не предвидится, и он отворачивается от Бранда, побивает его камнями и снова следует за своими прежними вожаками — пробстом и ловким фогтом.
Таким образом, оказывается, что обычный средний человек не в состоянии выполнить моральную заповедь Бран-да даже при величайшем, эмоциональном подъеме. То огромное напряжение толпы, о котором говорили школьный учитель и кистер и которое действительно разразилось бурей, кончается отрезвлением и капитуляцией. Бранд остался одиноким. Он не в состоянии переделать мир.
Одна из многих идей Б р а н д а: мир не следует приукрашивать, он таков, каков есть. Идеализм хорош в сфере духа, утопия хороша как иллюзия, но ломать жизнь, вести человеческую толпу к "горним высям", пренебрегая человеческими качествами, бессмысленно и опасно. Люди должны знать правду о себе, не заблуждаться относительно своих достоинств и пороков, просто быть собой. Да, человечество надо будить, пробуждать, заставлять думать, но ему нельзя лгать, его опасно приукрашивать, его безответственно завлекать, его преступно разлагать ложью о собственном величии.
Ведь близок день мести и день суда
Над ложью, царящей вокруг.
Ханс Хейберг:
Как отрадно все же сознавать, что через три четверти столетия после выхода в свет "Бранда", когда Норвегия подверглась нападению и захвату чужеземцами, народ выдержал тягчайшее испытание и сохранил себя как нация! Мы вправе спросить себя: какую роль сыграл Ибсен, и в немалой степени своим "Брандом", в духовной жизни Норвегии, в становлении того национального характера, который не дал себя покорить? В какой мере дух Ибсена вдохновлял учителей, не желавших склониться перед врагом, или священников и других столь же мало приметных участников Сопротивления? Трудно с уверенностью ответить на этот вопрос, но весьма характерно, что, когда Франсис Бюлль, крупнейший норвежский исследователь Бьёрнсона и Ибсена, на протяжении долгих лет заточения в Грини старался вселить мужество в своих товарищей по заключению, самое сильное на них впечатление производили рассказы об Ибсене. Они вдохновляли узников, особенно то, что говорил им Бюлль о "Бранде", вселяли в них бодрость и уверенность.
Ибо, в конце концов, правда побеждает ложь: только народ, знающий горькую правду, способен одолеть собственное зло.
В речи, произнесенной после почти тридцатилетней эмиграции, Ибсен сказал, что, возвратившись, обнаружил в Норвегии значительный прогресс. Но, — продолжал он, — посещение родины принесло мне и разочарования…
…Я убедился, что насущнейшие права личности до сих пор не обеспечены так, как следовало бы ожидать от нового государственного порядка. Правительство в основном не допускает ни свободы совести, ни свободы слова вне произвольно отведенных границ. В этой области, следовательно, предстоит еще сделать многое, прежде чем можно будет с уверенностью сказать, что мы добились подлинной свободы. Но боюсь, что нашей демократии в том виде, как она сейчас существует, не по плечу эти задачи. В нашу государственную жизнь, в наше управление и в нашу прессу должен войти новый, я бы сказал, аристократический элемент.