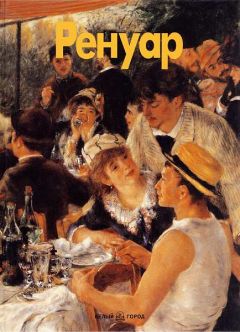По всей видимости, одним из первых с Петрушевским познакомился Крамской. Их переписка началась в 1876 году, а общение — возможно, и раньше. С передвижниками Петрушевский проводил занятия в университете, но также читал общедоступные лекции в педагогическом музее военно-учебных заведений, а затем специальные — в Академии художеств. Первое печатное издание лекций о свете и цвете в живописи вышло в 1883 году.
Вид на Москву с Воробьевых гор. 1882 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургБыл ли Куинджи знаком с Петрушевским? Несомненно — да. Проблемы, поднимаемые известным физиком в научных изысканиях и лекциях, больше других относятся к творчеству Куинджи, хотя в лекциях Петрушевского его имя не упоминается. Прямое свидетельство общения двух знаменитостей встречаем в воспоминаниях Репина: «В большом физическом кабинете на университетском дворе, мы, художники-передвижники, собирались в обществе Д. И. Менделеева и Ф. Ф. Петрушевского для изучения под их руководством свойств разных красок»[52]. Отсюда видна не только причастность Куинджи к ученым занятиям с Петрушевским, но и особая, исключительная предрасположенность его к восприятию цвета.
Между примерами, приведенными Петрушевским в лекциях 1883 года, и живописными работами Куинджи так много аналогий, что хочется сделать предположение о раннем знакомстве художника и ученого. Во всяком случае, отнести его ко времени общения с Петрушевским Крамского, то есть не позже 1876 года.
Крым. 1900–1905 (картина не окончена) Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Крыши. Зима. 1876 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургОсновные куинджиевские эффекты: яркость, красочность его картин, иллюзия глубины пространства — соответствуют предложенной Петрушевским системе дополнительных цветов и замечаниям его о закономерности света и цвета[53]. Несомненно, Куинджи воспользовался достижениями научной мысли в своем творчестве. В этом отношении его роль подобна дивизионистам во Франции, обратившимся, несколько позже него, к достижениям науки. Не исключена совместная разработка Петрушевским и художниками вопросов тона («… в одном роде художественных произведений — пейзаже, тон играет одинаковую, если не главнейшую, роль с рисунком») и цветных теней[54]. Усвоив научные открытия Петрушевского, Куинджи попытался использовать их в своей художественной практике. В этом отношении стоит возвратиться к истории с оригинальным, всех поразившим экспонированием Березовой рощи и Лунной ночи на Днепре в темноте, при ламповом освещении. И вовсе не красная стена соседнего дома заставила плотно закрыть окна, дабы не мешали красные рефлексы, как писали об этом событии корреспонденты петербургских газет. Избежать красных отсветов соседней стены можно было простым занавешиванием окон светлой прозрачной материей. Первый вариант Березовой рощи Куинджи вывесил на той же Морской, показывая картину при дневном свете, и никакая стена не могла тогда затмить впечатление поразительной солнечной живописи. Очевидно, дело заключалось в другом. Стоит обратиться к тому же Петрушевскому, чтобы стала понятна причина лампового освещения: «Опыт показывает, что иные картины имеют лучший вид при огне, чем при дневном освещении… Картины, изображающие лунное сияние, отраженное водой, часто представляются лучшими или, по крайней мере, более блестящими вечером, чем днем, так как светлые тона получают перевес над фиолетовыми, синеватыми и другими тонами воды. Особенно хороший вид принимают при огне картины, изображающие яркое дневное освещение или солнечное вечернее освещение белых и желтых предметов, например, стволов берез и сосен. Тона этих предметов отражают много лампового света, а темная сравнительно листва деревьев не способствует своим цветом отражению, через что усиливается противоположность между освещенными и теневыми местами предметов, изображенных в картине»[55]. Эти строки, написанные в 1883 году, вовсе не относились к произведениям Куинджи, но в них чувствуется впечатление, произведенное Лунной ночью на Днепре и Березовой рощей. Нет полной ясности, привел ли Куинджи Петрушевского к подобному анализу зависимости цвета от освещения или все произошло наоборот.
Осень. 1876–1890 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургВпрочем, это не имеет существенного значения. В обоих случаях Куинджи представляется нам новатором и в творчестве, и в экспозиционном деле, думающим о максимальном впечатлении, которое можно извлечь из цвета, по-особому освещая картину.
Изучение цветовых возможностей красок не могло не подвести Петрушевского, так же, впрочем, как и Менделеева, к мысли об их взаимосвязи с эстетическими категориями искусства, с художественным методом.
Кипарисы на берегу моря. Крым. 1887 Государственный Русский музей, Санкт-ПетербургСовременников поражала в работах Куинджи обобщенность форм, выявляющая основные смысловые акценты пейзажа. Куинджиевские обобщения становятся понятными в свете взглядов, достаточно ясно выраженных в приведенном Петрушевским утверждении Гельмгольца: «… живопись разрешает задачу, которую могла бы поставить себе наука, а именно: какие из признаков предметов наиболее существенны для охарактеризования их свойств»[56]. В лекциях о законах света и цвета Петрушевский не пренебрегал и «эстетической идеей», считая, что наука помогает ее наиполнейшему выражению. Он отмечал необходимость гармонического сочетания художественного таланта с научными познаниями. Взгляды Петрушевского на искусство содержат много общего с художественной практикой Куинджи. Прежде всего, это общее сказывается в повышенном интересе художника и ученого к выразительным потенциям цвета: «… дар цветовых ощущений есть такого рода роскошь, которая возвышает человека. Будучи одарены этой способностью, мы можем себе представить, какой мир духовных наслаждений они в состоянии внести в существование человека»[57].
Петрушевский теоретически, так же как Куинджи практически, хотел возвратить зрителю способность наслаждения цветом, красочной гармонией. Ученый видел смысл искусства в создании возвышенных образов, в стремлении к идеалу: «Искусство должно быть, как и наука, чисто. Если же и признать за искусством служебное значение, то разве в том смысле, что оно имеет силу, перенося мысль и чувства от материальной действительности, изображаемой им, прямо или косвенно к той отдаленной и возвышенной до недостижимости цели, которая одна должна бы служить двигателем наших дел»[58].
Возвышенность образов произведений Куинджи, отмеченных романтическим взглядом на мир, очевидно, и нужно сопоставить с мыслями Петрушевского о «возвышенной цели» искусства, долженствующей стать главным стержнем художественного творчества.
Новый этап романтического творчества Куинджи относится ко второй половине 1870-х-1880-м годам. Куинджи первым вернулся к поискам романтического образа, но уже на другой содержательной и пластической основе, чем романтизм первой половины XIX века.
И наконец, третий этап относится к рубежу XIX–XX веков. Медленная эволюция декоративной живописи, ее созревание в творчестве Куинджи позволили ему создать романтический образ, опирающийся на новые живописные достижения.
После двадцатилетнего молчания, когда считалось, что он прекратил творческие занятия, Куинджи неожиданно решился показать некоторые новые работы немногочисленной публике. Демонстрация проходила у него в мастерской. Осенью 1901 года Куинджи ознакомил с произведениями учеников, затем, недели две спустя — избранных друзей. Преемник Куинджи по мастерской пейзажа Александр Киселев писал Константину Савицкому: «А, Куинджи! Можешь себе представить, что он показал нам (академистам) четыре новых картины, очень хороших после двадцатилетней забастовки! Это просто удивительно. Оказывается, он все это время работал, и не без успеха»[59].
Иероним Ясинский опубликовал статью под интригующим названием Магический сеанс у А. И. Куинджи, где описывал, как четвертого ноября художник пригласил Менделеева с женой, художника Михаила Боткина, писательницу Екатерину Леткову, архитектора Николая Султанова и некоторых других посмотреть новые произведения. Кроме Вечера на Украине Куинджи показывал Христа в Гефсиманском саду, Днепр утром и третий вариант Березовой рощи.