Та героика, та внутренняя сила, которыми пронизан портрет Анджело Титтони, целиком совпадают с биографией героя освободительного движения. Брюллов изобразил его не только таким, каким он видел, воспринимал своего друга, но таким, каков он был на самом деле. Нет ничего неожиданного в том, что и братьев его, Винченцо и Мариано, художник изображает в героической тональности — характеры моделей и в этом случае соответствовали именно таким приемам изображения. Но вот когда смотришь на портрет их матери, Екатерины Титтони, и в ее образе тоже находишь удивительную жизненную силу, энергию, собранность, когда видишь, как из четырнадцатилетней дочери Анджело, Джульетты, Брюллов делает героиню, не только латами и конем уподобленную Жанне д’Арк, но и готовностью к подвигу, возвышенным строем переживаний, вот тогда убеждаешься, что и сам автор стал сейчас другим, что изменилось его мировоззрение, отношение к жизни. Во всех почти портретах Брюллова, сделанных в те последних два года, нет и следа расслабленности, безволия, бездейственности. Он словно бы понял, что время размышления, пассивного углубления в себя, время рефлексии прошло. Оно миновало для России, а в Италии Брюллов оказался в окружении активно действующих людей, борцов, солдат революции. И он словно заражается их жизненной силой, их верой, их мужеством, их взглядом на жизнь. Неверно было бы предположить, что Брюллов попросту выдумывает или идеализирует своих новых героев. В самих характерах старой итальянки, взрастившей сыновей-борцов, и юной восторженной девочки, начинающей сознательную жизнь в столь грозное для родины время, были эти черты. Особенности душевного состояния художника сказываются прежде всего в том, что из числа многих других черт характера своих моделей он выбирает именно эти, ибо понимает, что сила, мужество, героика мобилизованы, призваны самим временем, которое переживала тогда Италия.
Великолепный портрет аббата, написанный Брюлловым в 1850 году, и еще более — портрет археолога Микельанджело Ланчи с очевидностью демонстрируют и еще одно свойство брюлловского портретного искусства последних лет. Дело в том, что изображенные им люди привлекают не только выраженной в их характерах действенной силой; созданные им образы ничуть не утратили и тонкого интеллектуализма, свойственного ряду портретов петербургского периода. Уже в характере Анджело Титтони ощущается это сочетание действенной силы и напряженной мысли. В портретах аббата и Ланчи гармоническое сочетание этих свойств выражено еще полнее.
В портрете аббата Брюллов решительно отсекает все второстепенное, весь небольшой холст почти целиком отдан голове. Лицо, глаза — вот что больше всего интересует художника. Об этом человеке мы не имеем никаких сведений, не знаем даже его имени. Если в прочтении портретов семьи Титтони на нас безотчетно могли воздействовать сами факты их биографии, то здесь мы можем целиком положиться только на то, что нам рассказал об этом человеке художник. Что же поведал нам Брюллов об этом незнакомце? Художник говорит нам, что это человек большого ума, развитого интеллекта. Мы ясно улавливаем это не только потому, что у него большой высокий лоб, хотя и это привычное, ходячее свидетельство ума несомненно оказывает на нас свое воздействие. И все же главное здесь — не черты лица, но мастерски уловленный, нашедший зримое, материальное воплощение характер. Многие современники отмечали это драгоценное для портретиста качество Брюллова — умение воссоздать в портрете не только глаза, но сам взгляд, не только уловить характерные черты, но то подвижное, казалось бы, неуловимое, что мы называем выражением лица. Незнакомец открыто встречает наш взгляд, отвечает на него взором требовательным, твердым, он смотрит на нас как бы даже с вызовом. Все мускулы его лица пребывают в состоянии крайнего напряжения — крепко сжаты зубы, сомкнуты резко очерченные губы, кажется, даже чуть повернутую влево голову он держит с напряженным усилием. Вот это-то сквозное напряжение и рождает в нас впечатление внутренней силы человека, действенности его натуры. Он весь — как сжатая пружина, готовая в любой момент во вне вылить скопившуюся энергию. Если, скажем, в портрете Струговщикова нас ждала встреча с человеком топкой душевной организации, большого ума, но силою обстоятельств обреченного на бездействие, то здесь мы видим человека-мыслителя, человека-действователя в одном лице.
На том же сочетании действенности и интеллектуализма построен портрет Ланчи, по праву признанный одним из шедевров брюлловского портретного искусства. Ланчи было семьдесят два года, когда Брюллов написал его портрет. Художник не скрывает от нас следов увядания, грустных примет долгой жизни — желтоватой поблекшей кожи, глубоких морщин, избороздивших лицо, покатой опущенности плеч. Эта серьезная правдивость подкупает, заставляет безоговорочно поверить и в ту могучую жизненную силу, неиссякаемую энергию, которой Брюллов откровенно восхищается. Пафосом творчества Брюллова всегда было жизнеутверждение. Он всегда любил писать людей, которые нравились ему, в которых он угадывал черты своего идеала. Российская действительность той поры давала слишком мало поводов для восхищения. И вот теперь, когда судьба свела его не с одним, а сразу с несколькими людьми, сильными и мудрыми, мужественными и самоотверженными, любящими жизнь и готовыми ею пожертвовать во имя высокой миссии, с людьми, которые осознали смысл жизни, которые вместо бесплодных размышлений о смысле бытия, вместо уныния, вызванного незнанием, к чему приложить свои силы, живут полнокровной жизнью, он чувствует себя счастливым. Он с восторгом говорит зрителю: посмотрите, вот перед вами старый человек, проживший жизнь долгую и непростую. Но вглядитесь в черты его лица. Загляните в его глаза. Этот человек не устал жить, он не утратил молодого интереса к жизни. Он не знает вкуса апатии, безразличия, уныния, он завидно молод душой. Если аббат своей непреклонной замкнутостью отвергал наши попытки сближения, то образ Ланчи Брюллов решает так, что мы невольно оказываемся вовлеченными в круг переживаний ученого археолога, в ритм работы его мысли. Ланчи смотрит на зрителя не требовательно, не взыскующе, а, скорее, выжидательно, словно он только что высказал какую-то мысль и ждет нашего ответа, нашей реакции. Брюллов как бы делает зрителя собеседником своей модели. Этой живости помогает и жест Ланчи: его рука, держащая пенсне, как будто остановлена в какой-то краткий миг движения. Человек не может долго держать руку в таком неудобном, неустойчивом положении на весу. Брюллов заставляет нас поверить, что Ланчи всего несколько мгновений назад снял очки, и как бы у нас на глазах опускает руку, что изображенный в картине момент — момент переходный. Этот прием сообщает портрету движение, делает естественность позы непреложной.
Портрет Ланчи написан блестяще. В живописном отношении он продолжает линию камерных портретов петербургского периода. В отличие от портретов парадных, почти все без исключения интимные портреты Брюллова написаны на сочетании трех-четырех основных тонов. Им совершенно чужда декоративность, преувеличенность звучания цвета. Нарядность, декоративизм здесь уступает место разработке сложных цветовых отношений. Очень большое значение придает Брюллов соотношению теплых и холодных тонов. Еще в портрете Кукольника Брюллов был озабочен этой живописной проблемой: лицо поэта, как и стена, на фоне которой оно изображено, решены в холодных тонах. Тончайшими градациями, введением в холодную гамму лица охристых оттенков Брюллов добивается того, что в окружении тоже холодных, но зеленовато-серых тонов краски лица воспринимаются, как цвет живого человеческого тела. В портрете Ланчи сложнейшие оттенки теплых и холодных тонов тоже приобретают огромное значение. Все лицо построено на сочетании теплых желтых и красных тонов, переплетающихся с холодными сизыми и синеватыми. Если бы не возникающие в складках ярко-красного халата холодные сероватые оттенки, горячая масса красного вырывалась бы из холста, звучала бы дисгармонично рядом с холодными бликами, играющими на поверхности блестяще написанного мехового воротника халата. Брюллов не прибегает теперь почти никогда к резкому оконтуриванию форм. Очертания фигуры, руки, каждой части лица рождаются из соседства цветов, присущих каждой детали в натуре. В камерных портретах Брюллов экономен не только в количестве составляющих палитру цветов. Как правило, он в портретах этой линии до крайности скуп в деталях. Он немногословен, но зато каждое слово, сказанное им о натуре человека, веско и красноречиво. Когда-то Гоголь в «Арабесках», говоря о лаконизме Пушкина, восхищался его умением «немногими чертами означить весь предмет». Интимные портреты Брюллова свидетельствуют о том, что и он владел тайной этого искусства, в его повествованиях о человеке тоже «в каждом слове — бездна пространства».
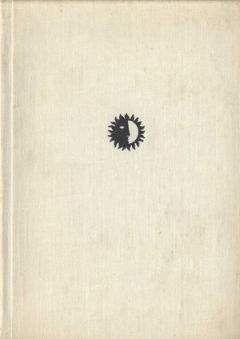

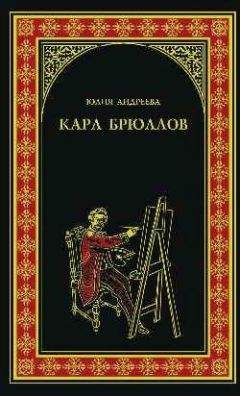
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
