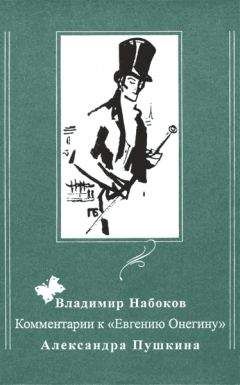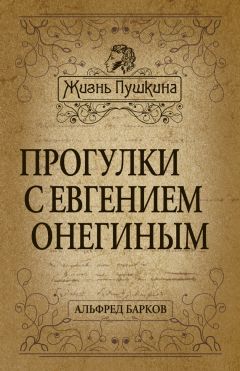Какой из этих трех путей был бы избран автором, мы не знаем. Бесспорно лишь то, что все эти возможности были П отвергнуты (пусть даже и вынужденно), и роман получил новое художественное решение, игнорировать которое мы не имеем права.
Если не говорить о работе по текстологическому анализу десятой главы EO (итоги ее подведены Томашевским — см. с. 395), то исследовательские усилия при изучении этого текста были направлены: 1) на сюжетное пополнение пушкинского романа за счет догадок о декабристском будущем Онегина; 2) на извлечение из текста тех или иных изолированных высказываний для иллюстрации политических воззрений П.
Первое направление нам кажется неплодотворным. Второе — значительно более обосновано, поскольку невозможно при характеристике воззрений П обойти эти сильные и порой уникальные в его творчестве высказывания. Однако хотелось бы указать на известную опасность этого пути. Текст EO представляет собой сложное целое, в котором смыслы образуются не столько теми или иными высказываниями, сколько соотнесенностью этих высказываний, стилевой игрой, пересечениями патетики, лирики и иронии. В этих условиях извлечение вырванных цитат, да еще из дефектного текста — путь опасный и неоднократно уже приводивший к комментаторским ошибкам.
Между тем в обширной литературе по десятой главе нет ни одного исследования, посвященного ее стилю, как нет и убедительных реконструкций целостного авторского замысла. Такое положение не случайно. Стилистический анализ десятой главы чрезвычайно затруднен, во-первых, поскольку стилистическое звучание частей текста существенным образом зависит от смысла целого, а целое в данном случае нам неизвестно. Во-вторых, стилистическое звучание строф EO, как правило, образуется за счет столкновения первых стихов строфы, которые задают ее тему, и «разработки» этой темы в последующих стихах. Однако известный нам текст дефектен: в нем, как правило, последние десять стихов отсутствуют. Таким образом, смысло-стилистическая «игра» в строфах десятой главы оказалась «стертой». В результате, если обычный текст EO изобилует цитатами, ссылками, пересечениями интонаций и игрой точек зрения, то десятая глава представлена дошедшими до нас отрывками, выдержанными в одном и том же едином интонационном ключе.
Учитывая гипотетичность любых предположений на этот счет — неизбежного следствия неполноты и фрагментарности дошедших текстов, хотелось бы все же обратить внимание на следующие обстоятельства "Болдинская осень" 1830 г. — время работы над десятой главой — период напряженного интереса П к проблеме повествования от лица условного рассказчика. Выработав в "Повестях Белкина" такой тип текста, П сразу заметил его не только художественные, но и тактические возможности: рассказ от "другого лица", казалось, мог позволить затрагивать опасные темы: так, в "Истории села Горюхина" была поднята запретная тема крестьянского бунта. Обращает на себя внимание, что оба основных замысла декабристского цикла: "Повесть о прапорщике Черниговского полка" <Записки молодого человека> и "Русский Пелам" писались от лица условных повествователей — недалекого молодого человека белкинского типа в первом случае и русского денди — во втором. Правда, П скоро убедился, что надежды на бóльшую цензурность такого типа сюжетов были необоснованными, и в результате произведения остались в планах и набросках.
Некоторый параллелизм построения может быть усмотрен и в десятой главе. Не все высказывания в ней в равной мере объяснимы, если их считать прямым выражением авторской позиции. Трудно безоговорочно приписать П выражения вроде: "О русский глупый наш народ". Бросается в глаза, что 5-й стих 15-й строфы:
Читал сво<и> Ноэли Пу<шкин>
единственное место в романе, где автор его фигурирует в третьем лице. П не раз выводил себя на сцену как действующее лицо романа, но неизменно обозначал себя местоимением первого лица. В стихах типа:
С ним подружился я в то время
(I, XLV, 3)
П был тот, кто говорит, а Онегин — тот, о ком говорят. В десятой главе П становится тем, о ком говорит некто. Кто? Может быть, десятая глава задумана была как текст от лица Онегина, параллель к его "Альбому" (ведь и в "Альбоме" были "чисел тайных письмена" — VI, 430)? Эта гипотеза, возможно, объяснила бы известный налет иронии в декабристских строфах, вызвавший столь болезненную реакцию, например, Н. И. Тургенева, одновременно с тем странным обстоятельством, что наиболее лирические и поэтические строки в главе посвящены Наполеону. В отличие от злой сатиры в адрес Александра I, элемент иронии в декабристских строфах глубоко дружествен и проникнут сочувствием. Его можно сопоставить с такими выражениями, которые, например, сходили с пера П. Я. Чаадаева, писавшего горячо любимому им И. Д. Якушкину в Сибирь, что декабристы решали судьбы России "между трубкой и стаканом вина" (Шаховской Д. Якушкин и Чаадаев. "Декабристы и их время". М., 1932, с. 184). Текстуальная близость к "между Лафитом и Клико" позволяет предположить, что Чаадаев, писавший в 1836 г., знал этот текст. Можно было бы отметить близость стилистической конструкции десятой главы к сохранившимся строфам "Альбома" Онегина.
Впрочем, эти предположения, как и другие опыты анализа десятой главы, следует принимать с большой осторожностью: фрагментарность материала запрещает здесь категорические суждения.
Текст EO — живое целое. Он живет неисчислимыми связями, уходящими вширь — в бесконечное число реалий, упоминаемых в произведении или подразумеваемых, и намеками, ассоциациями, сцеплениями смыслов, уводящими, по счастливому выражению А. В. Западова "в глубь строки". Исчерпать эти связи комментарий не может; его задача — приблизить читателя к смысловой жизни текста.
См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 144–149.
Список сокращений см. на с. 12–14.
В настоящее время это издание, охватывающее I–VI главы, представляет лишь исторический интерес.
Следуя принятой традиции, все даты во "Внутренней хронологии "Евгения Онегина" даются по старому стилю.
Своеобразным пределом такого подхода явился роман Б. Иванова "Даль свободного романа" (М., 1959), в котором П представлен в облике нескромного газетного репортера, выносящего на обозрение публики интимнейшие стороны жизни реальных людей.
В этом смысле больше, чем домыслы о том, какую из знакомых ему барышень «изобразил» П в Татьяне, могут дать парадоксальные, но глубокие слова Кюхельбекера: "Поэт в своей 8-й главе похож сам на Татьяну. Для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и знает его наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин переполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет" (Кюхельбекер, с. 99–100). Прообразом Татьяны восьмой главы тонкий, хотя и склонный к парадоксам, близко знающий автора Кюхельбекер считал… самого Пушкина! На проницательность этого высказывания указал Н. И. Мордовченко (см.: Мордовченко Н. И. "Евгений Онегин" — энциклопедия русской жизни. Пресс-бюро ТАСС, 1949, № 59).
По манифесту 20 июня 1810 г. серебряный рубль равнялся 4 руб. ассигнациями, т. е. речь шла о 4000000 руб. ассигнациями.
Л. Н. Киселева, проверившая биографии всех современников П, родившихся в интервале между 1794 и 1798 гг., по справочнику Л. А. Черейского "Пушкин и его окружение" (всего 137 биографий, охватывающих круг реальных жизненных наблюдений автора EO), установила, что среди них нет ни одного человека, который бы никогда не служил и не имел никакого чина. Подавляющее большинство из них учились в различных учебных заведениях, а не ограничивались только домашним образованием. Пользуюсь случаем поблагодарить Л. Н. Киселеву, любезно поделившуюся со мной результатами своих разысканий.
Радклиф (Рэдклифф) Анна (1764–1823), английская романистка, одна из основательниц «готического» романа тайн, автор популярного романа "Удольфские тайны" (1794). В «Дубровском» П назвал героиню "пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф", (VIII, 1, 195). Дюкре-Дюмениль (правильно: Дюминиль) Франсуа (1761–1819) — французский сентиментальный писатель; Жанлис Фелиситэ (1746–1830) — французская писательница, автор нравоучительных романов. Творчество двух последних активно пропагандировалось в начале XIX в. Карамзиным.