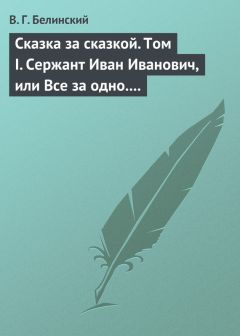Виссарион Григорьевич Белинский
Сказка за сказкой. Том II
СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. Том II. Санкт-Петербург. В типографии Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи. 1842. В 8-ю д. л. 379 стр.
Благодаря прекрасной повести г. Кукольника «Сержант Иван Иванович, или Все за одно», издание «Сказка за сказкой» обратило на себя общее внимание: первый выпуск, заключавший в себе повесть, о которой мы говорим, был скоро раскуплен {1} . Такая же блестящая участь, по-видимому, ожидала и следующие повести под общею фирмою «Сказка за сказкой»; но как общего у них с первою была только одна фирма и как каждая следующая повесть была все хуже и хуже предшествовавшей, то публика, приобретши первый выпуск, не захотела иметь последующие. Чтоб помочь горю, все выпуски были переплетены в одну книгу, на заглавии которой было выставлено: Том I. Ради одной первой повести можно купить и весь том: так сделали, вероятно, многие, которые не успели заблаговременно приобрести «Сержанта Ивана Ивановича Иванова, иди Все за одно». Опыт – великое дело в искусстве выгодно спускать с рук книги!
Второй том «Сказки за сказкой» также не без хороших, как и не без плохих вещей. Из четырех заключающихся в нем повестей нам больше других нравится повесть г. Кукольника «Позументы». Мы уже не раз имели случай замечать, что г. Кукольник мастер писать интересные рассказы из времен Петра Великого {2} . Главные достоинства их – простота, естественность и правдоподобие. Заметно, что он изучал эту эпоху и вник в дух ее. Каждое лицо, в каком бы оно ни было положении, говорит у него своим и своего времени языком. Борьба, – то смешная и комическая, то достолюбезная и трогательная, – борьба европеизма и народности просвечивает и в понятиях и в языке действующих лиц тех рассказов г. Кукольника, которых содержание взято из эпохи Петра Великого. Долго было бы распространяться о том, как у него это делается, и для удобнейшего доказательства выписываем несколько мест из «Позументов».
К новгородскому почтмейстеру, отставному сержанту, Богдану Кирилловичу Чегликову зашел, по своему обыкновению, приятель его, новгородский воевода и отставной капитан, Федор Ильич Шаплыгин. Отправив почту, хозяин заметил, что гость сбирается уходить.
...
– Что ты, что ты это? Помилуй, Федор Ильич, куда ты в такую стужу?
– Эх, Богдан Кирилыч, старому солдату мороз потеха. У меня, что принадлежит до левой руки, так не совсем хорошо. В Польше по левое плечо, так сказать, оторвало, а ноги… могу похвастать. И теперь без привалу, на три перехода, хоть сейчас…
– Что ты это, Федор Ильич, право не по-соседски. Просидел со мной за полночь, компанства ради; я зевнул, а ты и обиделся.
– Бог с тобой, Богдан Кирилыч, зевай себе сколько хочешь; стану я обижаться! На всякое чихание не наздравствуешься.
– Так отчего же ты идешь?
– Иду, потому что пора. Боря у меня один дома с няней. Ведь мы не в городе. Добрая верста до моей усадьбы. Без хозяина всякое может прилучиться. На людей не надейся. Прощай, Богдан!
– Экой ты, право! Когда-то еще приедет Автамон, а я тут сиди один. Ну, повремени, пока почта. Выпьем себе настоечки, а если хочешь, так мы с тобой московские куранты почитаем.
– Посидеть, изволь, посижу, а уж от курантов уволь. Право, это куранты недоброе; зачем народу знать, что за морем делается? Добро бы еще сенатские али другие какие нужные указы друковали, а то обо всяких немцах пишут, что который по своим городам делает.
– Ну, брат, извини! Там иной раз такое начитаешь, что во всю жизнь не только не увидишь, да и не услышишь. Ну, знаешь ли, примерно, что турским султаном перскому шаху штильштанд аккордован?
– Да это, брат, каждый солдат знает, который был под Азовом.
– Ну, а что?
– Да известно что…
– Не отвиливай, скажи что?
– Да как же я скажу, когда Настасья Ивановна не спит…
– Уж это мой грех, говори…
– Ну, изволь, когда привязался; это, значит: что турский султан приказал перского шаха на кол посадить.
– Как на кол?
– Ну, да, на кол, на шпиль; это, ради страшности такой, по-немецки и написано.
– Вот что! а я совсем другой толк давал…
Поутру, после этого разговора, Богдан Кириллович так раздумался сам с собой:
...
Спасибо государю: правда, поцеловала меня проклятая картечь в ногу; орех кажется, а на всю жизнь окалечило; умирать приходилось; так нет, на казенный кошт вылечили… Спасибо светлейшему! Слово сказал ямской канцелярии – Богдан почтмейстером в Новгороде, Богдан в почете, Богдан женат, Богдан семь лет живет припеваючи; у Богдана Наташа по седьмому году красавица, у Богдана наследник есть, пойдет в солдаты; если глупая картечь не заденет, махнет и в генералы; нынче заслуга – что прежде род – стал и новый порядок; генерал, почт-директор, по всей дороге почтмейстеров чуть не палкой взыскал, а Богдану спасибо. Не только мелкие дворяне Богдану в дружбу пошли, да и большие, и чиновники, и богатые… Вот Фома Иванович Зяблик – и бригадир, кажется, а всякий раз к себе в Туровку зазывает в гости, и уж не я буду, если не приготовил на каждое рыло наше по гостинцу. А что в самом деле, Настасья Ивановна, нынче день не почтовый; почитай два дни никакой почты не будет; вторничная отошла, а пятничная в субботу придет, а вторничная из Москвы раньше пятницы не будет. А у нас прием в середу прошел, а до пятницы далеко. Как ты думаешь?
– Не мое дело об этом думать. У меня своя забота, надо Никитку искупать по вечеру; так и благо, что эти почтари холодить избы не будут.
– Да не то, Настенька! Я думал бы к его высокородию, к Фоме Иванычу съездить; здешний ям даром меня свозит, а ведь его высокородие не без причины в Туровку кличет. Видно, желает чем ни есть наше к нему почитание наградить!
– Так что же? Ведь не я поеду, не мое и дело; поезжайте с богом, расходу меньше.
– И то правда! Так я поеду, Настенька!
– Поезжайте!
– Постой же, я Автамону скажу…
И почтмейстер распорядился. Вернулся Богдан Кириллович, оделся в Автамонов тулуп и кеньги; шапка зимняя своя была; подпоясался почтальонским патронташем с пистолетами; Автамон про случай зарядил их пулями. И сани готовы.
– Ну, прощай, Настенька, – сказал Богдан Кириллович и стал жену и детей целовать; отцеловал детей да хотел на иконы перекреститься. Глядь, сундучок стоит.
– Послушай, Настенька, ты ларец-то прибереги, припрячь: тут за тысячу рублей казенного сбора.
– Ах ты господи, беда какая, я от страха умру. Слышал ты, что вчера Ефим рассказывал?
– Вздор, Настенька, сущий вздор; воры далече, а я про случай Автамону накажу, чтобы не отлучался, а ты знаешь Автамона – не выдаст. Да и под самым городом; ямщики тут же; две пары почтовых лошадей на конюшне. Вздор.
– Так смотри же, Богдан Кириллович, не забудь Автамону сказать…
– Да вот Автамон в конторе стоит. Слышишь, Автамон, тут за тысячу рублей казенных денег, так не плошай, никуда не отходи, если приезжие будут, сюда никого не пущай; в приемные комнаты пусть идут; станция велика! Слышишь?
– Слушаю-с, ваше благородие, не изволь беспокоиться; у меня топорик есть, за боевое всякое ружье справится.
– То-то же, гляди!
Почтмейстер уехал, а Настасья Ивановна, сама не зная зачем, схватила ларец, потрясла – золотом и серебром отзывается; ей так стало страшно, что не приведи господи; села она на ларец, да и давай Никиту качать, а Наташа с куклой по-своему лепечет… Прошел час, другой. Настасья Ивановна со страхом освоилась, только все ларчика из-под мышки не выпускает; стала она и обед стряпать, а ларец все на глазах; то и дело Автамона кличет: «Тут ли ты, Автамон?..»
– Тут, матушка, не бойся, двери на щеколде, топорик точу про случай.
И точно, Автамон отпускал старую, ржавую секиру с особенным усердием. Чем чище становилось железо, тем с большею жадностию засматривались глаза Автамона на тусклое, широкое поле топора, на тонкую линию острия, и старые глаза мутились, и топор выпадал из черствых рук его.
– Тьфу ты, нечистая сила! – бормотал Автамон. – Такого со мной ни под турком ни под шведом не приключалось.
– С кем ты там разговор ведешь, Автамон?
– Так про себя бормочу… – отвечал он громко, а потом сказал тихо: – Да, про себя! Нет! С чертом! Сгинь, пропади, нечистое наваждение!
Автамон подошел к дверям своим, посмотрел, плотно ли заперты, влез на полати, да и давай ко сну себя неволить; закрыл глаза, а в глазах искры – будто из кошки ночью огнем сыплет; те искры час от часу круглее, крупнее, да и стали добрыми кружками, то серебреником прокатится, то упадет златницей. Не спится Автамону; видит, беда, да сам не знает, какая. Затянул было песню во всю ивановскую; голос его от военных невзгод был такой сиплый, будто ветер поздней осенью; перепугался Никитка, да и давай кричать. Почтмейстерша вышла в почтальонскую избу, глянула на топор да чуть не обомлела, а с полатей Автамон пуще кричит.