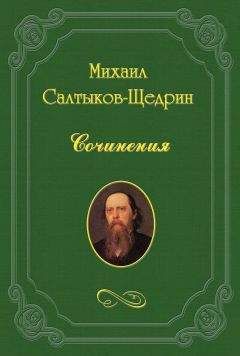Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Внучка панцирного боярина
Роман из времен последнего польского мятежа И. И. Лажечникова. В трех частях. СПб. 1868 г.
Кто любит добродетель и желает продолжать любить ее, тот пусть не читает нового романа г. Лажечникова. Помимо воли почтенного автора, добродетель является в его произведении не в виде скромной и почтенной личности, которая действует честно и справедливо, потому что для нее это самая естественная и согласная с указаниями здравого рассудка форма действия, но в виде надоедливой старухи-салопницы, которая никак не действует и не поступает, а только выпрашивает грош в вознаграждение за свою бессодержательную болтовню.
Кто любит порок – тоже пусть не читает романа г. Лажечникова. Правда, что порок в этом романе ни в ком не возбудит негодования, никого не заставит страдать нравственно (что, как известно, для безнравственного читателя хуже ножа острого), но в то же время он не представляет никаких приманок, а следовательно, не имеет никаких шансов в смысле прозелитизма. Порок является здесь в виде плохого провинциального актера, который намазывает себе сажей лицо с целью возбудить в зрителях ужас или сострадание, а вместо того возбуждает только смех.
Вообще, ежели кто-нибудь что-нибудь любит, кто-нибудь о чем-нибудь думает, – тот пусть не читает романа г. Лажечникова.
Роман этот следует читать в те минуты, когда мозговое вещество утомлено и безучастно к впечатлениям, приходящим извне, когда на дворе царствует темная ночь, а в комнате нет ни одной свечи. Вы спросите, читатель, каким же образом можно читать ночью без свечи? На это мы ответим: ежели нельзя, то, следовательно, и читать не нужно.
Мы очень хорошо понимаем, что г. Лажечников имеет за собой весьма почтенное прошедшее; мы помним, что его «Последний Новик», «Ледяной дом» и «Басурман» доставляли нам когда-то большое удовольствие (а давненько-таки, признаться, мы читали их), но потому-то именно мы и убеждаем всех и каждого: останьтесь при тех впечатлениях, которые оставил вас прежний Лажечников, и не читайте нового Лажечникова.
Герои почтенного автора разделяются на добродетельных и порочных. Первые одарены прекрасною и привлекательною наружностью: мужчины имеют хороший рост, женщины – поражают соразмерностью форм и обжигают молнией глаз; оба пола великодушны и порывисты, даже почти нерассудительны в своих движениях (так, например, старик Ранеев (ч. I, стр. 28) в порыве великодушия приказывает дать почтальону гривенник вместо обыкновенных трех копеек, следующих за доставку письма); они не помнят зла, никогда ничем не хвастаются, кроме добродетели, на фортепиано играют не только прекрасно, но вдохновенно, не читают ни Бокля, ни Молешотта, ни даже Либиха и за всем тем имеют ум проницательный. Напротив того, порочные герои одарены и внешностью самою бестолковою: глаза у них «кошачьи», а ежели не кошачьи, то испускают «какой-то демонический блеск», которого не смягчает даже «демоническая усмешка на губах»; они вероломны и охотно эксплуатируют московских купчих, наклонных к телесной любви; они не дают почтальону гривенника; они не хвастаются, но не потому, чтобы не хотели хвастаться, а потому, что нечем; они играют на фортепиано посредственно и, во всяком случае, не вдохновенно; они читают Бокля, Молешотта и Либиха и за всем тем не имеют ума, а ежели и имеют, то непроницательный.
При таких условиях, казалось бы, первым следовало наслаждаться и торжествовать, вторым же – скитаться по свету с Молешоттом под мышкой и угрызениями в душе; но у г. Лажечникова выходит совсем наоборот. Коли хотите, добродетель в конце концов и торжествует, но уже до того поздно, что в минуту торжества победитель, от старости и расстройства умственных способностей, вместо победного крика, может испустить только слабый писк. Напротив того, порок хотя и наказывается, но уже тогда, когда он успел перепортить целые стада добродетельных людей и когда, исполнив свою задачу, он может спокойно сложить руки и сказать: ну, теперь мне на все наплевать!
Мы знаем, что это так исстари заведено, чтобы торжеству добродетели предшествовали некоторые предварительные истязания, и что без этого никакой роман состояться не может; но мы знаем также, что в этих случаях, для успокоения встревожившейся совести читателя, всегда дается какая-нибудь конфетка, которая и помогает угнетенной добродетели справляться с истязаниями. Так, например, добродетельному, но угнетенному чиновнику ассигнуется из государственного казначейства пенсия; оставленной на произвол судьбы сироте является на помощь благодетельная старушка, которая учит ее по-французски и танцевать. Все это делает жизнь униженных, но добродетельных людей довольно приятною, так что порою они даже и сами не могут объяснить, в чем заключается так называемое угнетение. Но поэтому-то именно они и не торопятся восторжествовать слишком скоро над пороком, они как будто говорят: пускай, мол, его пороскошничает; все равно, ему не уйти из наших рук, а между тем И. И. Лажечников успеет написать роман.
Герой романа, заглавие которого выписано выше, некто старик Ранеев, чином генерал, но до того беспутный, что даже при совершенном оскудении в генералах трудно себе представить, какими путями подобный сорванец мог добиться генеральского чина. Типическую черту его характера составляет так называемая честность, которая выражается, во-первых, в том, что, кого бы и где бы он ни встретил, сейчас же начинает лаять на луну; во-вторых, в том, что лицо у него во всякое время свободно передергивается от негодования; и в-третьих, в том, что он кричит на столоначальников: «негодяи!», полагая, вероятно, что это самый дешевый и притом совершенно безнаказанный способ сделаться благодетелем рода человеческого. Но за всем тем, старикашка и не без хитрости, как это явствует из того, что в видах устройства своей генеральской карьеры он не брезгует расположить к себе некоего Анонима предложением ему взаймы значительной суммы денег. Другая типическая черта его характера – это порывистость движений, с помощью которой он, среди многолюдной улицы, хватает за воротник неизвестного человека, вступает с ним в борьбу и разбивает при этом свои очки. Сверх того, он не может без слез видеть гравюр, изображающих женщин, кормящих грудью младенцев, и предпочитает их тем, в которых изображены просто обнаженные, купающиеся женщины.
Этот бестолково-стремительный, но не чуждый созерцания женских грудей старец встречается на Кузнецком мосту с другим добродетельным героем, Сурминым, отставным кавалергардом, который также не чужд склонности к созерцанию женских грудей. Встречаются они перед выставкой магазина Дациаро,{1} где созерцательности этого рода представляются, как известно, богатая пожива. Оказывается, что как ни добродетелен старик Ранеев, но ему небезызвестно ощущение юноши, который, при виде купающихся женщин, «хотел бы превратиться в волну, которая скатывается по их прекрасным формам». Оказывается также, что и Сурмин, несмотря на то что служил в кавалергардском полку, этом рассаднике отечественного целомудрия, тоже не прочь от знакомства с актрисами и камелиями и даже некоторым из них «позволил себя похитить на несколько упоительных часов». Люди столь целомудренные не могли не понять друг друга с первого взгляда, и вот между ними завязывается обмен мыслей, из которого читатель узнает, что Сурмин, независимо от основательного воспитания по части картинок, приобретенного на службе в кавалергардском полку, когда-то был одолжен Ранееву правильным решением его дела («негодяи!» крикнул он в то время на столоначальников и этим восклицанием сразу разрешил дело Сурмина). Тем не менее очень может быть, что этот разговор так бы на этом и кончился, если б Ранеев не вцепился в какого-то прохожего молодца, в котором он заподозрил врага своего, коллежского советника Киноварова, не вступил с ним в борьбу и не разбил себе при этом головы. Тогда потребовалось ехать домой и, разумеется, не иначе, как в сопровождении Сурмина.
Дома их встречает дочь Ранеева, Лиза, которая тотчас же обжигает Сурмина молнией глаз. Но, увы! – она любит уже другого, а именно поляка Владислава Стабровского. Стабровский, впрочем, малый отличный; он состоит в Москве на службе и обращает на себя внимание начальников, а поэтому мог бы даже считаться обладающим проницательным умом, если бы не сбивала его с толку польская интрига. Он хорош собой (г. Лажечников удостоверяет даже, что на лице его «отпечатался тип Авзония»{2}), но глаза его испускают демонический блеск, в чем опять-таки оказывается виновною польская интрига. Он и с своей стороны любит Лизу, но польская интрига, в лице капитана Жвирждовского, и тут предъявляет свое разрушительное действие. В колебаниях между Лизой и польской интригой застает его начало романа, и, к величайшему сожалению читателей, победительницею остается не Лиза, а польская интрига. И что всего замечательнее – чтобы рассечь этот узел, Лизе стоило только сказать: я твоя. Если б она выговорила эти простые слова, Владислав не бежал бы до лясу,{3} и роман был бы кончен на двадцатой странице. Но она не говорит их; почему не говорит? – а просто потому: дай не скажу, авось это поможет И. И. Лажечникову написать роман.