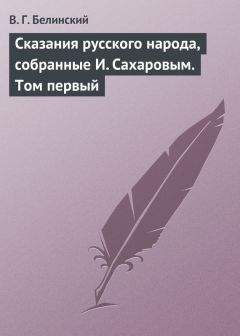Виссарион Григорьевич Белинский
<Статьи о народной поэзии>
ДРЕВНИЕ РОССИЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, собранные Киршею Даниловым и вторично изданные. Москва. 1818.
ДРЕВНИЕ РУССКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (,) служащие дополнением к Кирше Данилову. Собранные М. Сухановым. Санкт-Петербург. 1840.
СКАЗАНИЯ РУССКОГО НАРОДА, собранные И. Сахаровым. Т. I, Кн. 1, 2, 3, 4. Издание третие. Санкт-Петербург. 1841.
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ. Часть I. Санкт-Петербург. 1841.
Общая идея народной поэзии
«Народность» есть альфа и омега эстетики нашего времени, как «украшенное подражание природе» было альфою и омегою эстетики прошлого века{1}. Высочайшая похвала, какой только может в наши дни удостоиться поэт, самый громкий титул, каким только могут теперь почтить его современники или потомки, состоит в слове «народный поэт». Выражения: «народная поэма», «народное произведение» часто употребляются теперь вместо слов: «превосходное, великое, вековое произведение». Волшебное слово, таинственный символ, священный иероглиф какой-то глубоко знаменательной, неизмеримо обширной идеи, – «народность» заменила собою и творчество, и вдохновение, и художественность, и классицизм, и романтизм, заключила в одной себе и эстетику и критику{2}. Короче: «народность» сделалась высшим критериумом, пробным камнем достоинства всякого поэтического произведения и прочности всякой поэтической славы. Но все ли, говоря о народности, говорят об одном и том же предмете? не злоупотребляют ли это слово? понимают ли его истинное значение? Увы! С «народностью» сделалось то же, что некогда произошло с «романтизмом» и со многими другими словами, которые потому именно и утратили всякое значение, что слишком расширились в значении, которые сделались непонятны ни для кого потому именно, что казались всем слишком понятными! Чтоб уяснить значение слова «народность», мы должны изъяснить процесс исторического развития идеи, заключающейся в этом слове, должны показать, когда начали думать о «народности», что разумели под нею прежде и что должно разуметь под нею в наше время.
Было время, когда все литературы только из того и бились, чтоб не быть народными, но быть подражательными. Подражательность в литературе рождена римлянами. Народ практический, народ меча и закона, римляне были обделены от природы эстетическим чувством. Республика по справедливости могла гордиться своим энергическим и благородным красноречием, которое родилось, выросло и расцвело на республиканской почве, вместе с гражданственностию, и которое с монархиею переродилось в реторику; но республика не имела поэзии как искусства: вся ее поэзия заключалась в гражданской доблести, в великих делах и подвигах свободного и могучего народа. О поэзии как искусстве римляне узнали от греков, которые, умерши в настоящем, жили своим великим прошедшим, в настоящем бесславии утешались прошедшею славою и, за неимением всякого другого дела, изучали в школах памятники поэзии цветущего времени своей истории, которое навсегда прошло для них. Завоевав труп некогда столь прекрасной Эллады, варвар-римлянин впервые, так сказать, столкнулся с гением ее дивного искусства и обошелся с ним истинно по-варварски: известно, что консул Муммий, сожегши и разграбив великолепный Коринф, отправляя в Рим статуи и картины, сделал с перевозчиком условие, по которому тот, в случае утраты статуи или картины, обязывался представить взамен такую же, а попорченную исправить на свой счет. Однако ж, несмотря на ненависть Марка Катона к греческой философии и учености, вкус к ней начал быстро распространяться в Риме. Знаменитые люди Рима той эпохи воспитываются греческими выходцами; изучение греческой литературы делается необходимостию для образованного римлянина. Но римская поэзия началась не прежде, как когда Август затворил храм Януса и мертвым, обманчивым покоем заменил кровавые волнения республики{3}. Отпущенный раб Гораций называл себя подражателем Пиндара и, посвятив свою сговорчивую музу хвалению своего доброго барина, благодетеля, отца и заступника, – Мецената, ввел в моду поэзию прихожих, которая так восхищала французов до времен Восстановления{4}. Виргилий потщился явить в своем лице римского Гомера – и, чахоточный отец немного тощей «Энеиды»{5}, с большим успехом перепародировал божественную «Илиаду», или – как говорили эстетики прошлого века – весьма удачно подражал Гезиоду и Теокриту. Более его поэтический Овидий передавал в своих стихах поэтические предания эллинской мифологии{6}. Впрочем, рабство римлян в поэзии не было результатом только политического унижения: национальный дух римлян всегда был чужд поэзии, и истинная, латинская литература заключается в памятниках красноречия и исторических сочинениях, между которыми достаточно указать только на записки Юлия Цезаря и летопись Тацита, чтоб увидеть великое значение латинской литературы. Но тем не менее подражательная латинская поэзия стала на ряду с греческою в глазах новейшей Европы. Последний представитель французской критики, Лагарп, отдавая «Илиаде» преимущество пред «Энеидою», – преимущество в силе, – «Энеиду» ставит несравненно выше «Илиады» со стороны изящества{7}. Вероятно, первою причиною этого было, что новейшая Европа с латинскою поэзиею познакомилась прежде, чем с греческою. Из латинского языка образовались почти все новоевропейские языки, кроме немецкого, и латинский язык был богослужебным языком новейшей Европы, которая на нем приняла книги Священного писания. Схоластическое направление европейской учености средних веков также много способствовало преобладанию духа латинской поэзии. Французы, гордые новым просвещением, основанным на изучении древности, отверглись от преданий средних веков и всех романтических элементов, столь родственных их национальному духу, как и вообще духу всей новейшей Европы, возмечтали создать себе литературу, основанную на подражании греческой, которой они нисколько не понимали (потому что не понимали никакой истинной поэзии), и латинской, которая более соответствовала их практическому, социальному духу. «Ars poetica»[1] Горация родила «L'Art poétique»[2] Буало, которое и сделалось с того времени кодексом, алкораном их эстетики. Но, думая подражать грекам в трагедии, французы и тут, назло себе, оставались французами: их трагедия столько же походила на драматические поэмы Софокла и Эврипида, сколько придворные Лудовика XIV походили на Агамемнонов и Клитемнестр героической Греции. Чтоб сделать подражание как можно ближе к подлиннику, они не только навязали греческим и римским героям и героиням любезность и любезничанье, сентиментальность и надутость своих маркизов и маркиз, но даже и одели их в огромные нарики, шитые кафтаны и робы с фижмами, и на лица налепили множество мушек. В подражании латинской поэзии французам удалось лучше: если сентиментальные эклоги их идилликов – г-жи Дезульер, Флориана и других уж чересчур были пошлы даже в сравнении с эклогами Виргилия, – зато «L'Art poétique» и сатиры Буало едва ли были ниже «Ars poetica» и сатир Горация, а Вольтерова «Генриада» решительно ничем не уступает Виргилиевой «Энеиде». Кроме многих других причин, переход французов к подражанию древним был очень понятен еще и как противодействие сентиментально-аллегорическому направлению их литературы, которым ознаменовалась эпоха, разделявшая средние века от новейшей истории. Не удивительно, что влиянию французского вкуса покорились немцы, которые совсем не имели литературы, когда у французов уже была литература; но удивительно, что влиянию французского вкуса покорились англичане, которые имели Шекспира, когда еще у французов не было даже и Корнеля, а были только Ронсары, Скюдери и подобные им. Конечно, причиною этого должно полагать общежительное влияние Франции на Европу, которое и теперь продолжается, как и всегда будет продолжаться: в деле живой, общественной литературы французы Всегда были и всегда будут впереди всех. Даже в рабской подражательности непонятым образцам древних литератур французы оставались верны себе, были национальны в духе, будучи подражателями в словах и внешних формах; но англичане, в лице Драйдена и Попе, отказались сами от себя, и их подражательная литература была пустоцветом в полном смысле этого слова… Вдруг все изменилось. Восстал от апатического усыпления национальный гений немцев. Энергический Лессинг – этот литературный Лютер – мощно восстал против французского направления и победоносно низверг его{8}. Самобытные гении Гете и Шиллера взошли на небосклоне юной германской литературы блестящими солнцами, которых живительные лучи оплодотворили почву национального гения. Романтическая школа Шлегелей явилась крестовым походом на классический исламизм, – и один из этих примечательных поборников романтизма сражался с классицизмом в самой столице его – Париже{9}. Национальный гений Англии также воспрянул снова, и, в лице Байрона, явился у ней новый титан поэзии; Вальтер Скотт создал совершенно новую поэзию – поэзию прозы жизни, поэзию действительной жизни. Сама Франция отказалась от своих вековых предубеждений, изменила своей национальной гордости и отреклась от богов своего Парнаса, которые доставили ей владычество над всею Европою. И все это было сделано ею во имя «романтизма»! Представители ее нового направления назвались «романтиками» и для дикого мрака средних веков навсегда расстались с светлым небом Эллады и Авзонии{10}. Что же такое был этот романтизм? В каком отношении находился он к классицизму? Каким образом одна крайность так быстро, без всякой постепенности, без всякого посредствующего перехода, могла замениться другою, враждебною и противоположною ей крайностию?.. Но точно ли эти крайности так враждебны друг другу, что между ими нет ничего общего, нет никакой возможности примирения?.. Или, не кстати ли здесь вспомнить очень умную французскую поговорку: les extrèmes se touchent?..[3] В самом деле, не охладели ли мы теперь и к самому романтизму, как еще недавно и так внезапно охладели к классицизму? – Что ни говорите, но слово «романтизм» уж редко встречается теперь в наших критиках и эстетиках; оно уже потеряло для нас свое прежнее значение, уж не служит ответом на все вопросы… Скажем более: «романтизм» давно уже уволен вчистую, давно на покое, хоть и избитый, измученный, израненный – не столько своими врагами, сколько поборниками… Это преинтересная история, которую надо исследовать критически… Помним мы, что «романтизм» в своем начале шел об руку с «народностию», часто был принимаем за одно с нею; но – увы! – его уж нет, этого прекрасного молодого человека, столь энергического и пламенного, хотя немного и с растрепанными чувствами; его уж нет, а «народность» все еще скитается каким-то бледным призраком, словно заколдованная тень, и, кажется, еще долго ей страдать и мучиться, долго играть роль невидимки, какого-то таинственного незнакомца, о котором все говорят, на которого все ссылаются, но которого едва ли кто видел, едва ли кто знает… Взглянем же прямо в лицо этому существу, чтоб познакомиться с ним настоящим образом, узнать все его приметы, уловить настоящую его физиономию и тем положить конец его «инкогнито».