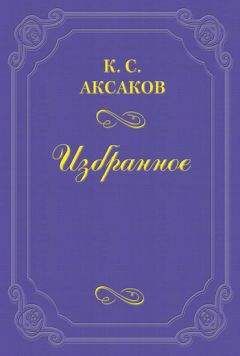Что касается до бояр, действовавших в царствование Иоанна, то нельзя отказать многим в доблести. Конечно, взятые как целое сословие они не приносили пользы России. Напротив, русский народ боярством не был доволен. Стоит прочесть отзыв псковского летописца о боярах; рассказывая, что бояре мимо всей земли хотели выбрать шведского королевича, но что был выбран царь Михаил Федорович, он прибавляет: «и не сбысться их злый боярской совет»[25]. Потом, описывая вредные действия бояр в первое время царствования Михаила Федоровича, он восклицает: «…сицево бе попечение боярско о земле русской!»[26]. Но тем не менее потомки воинственной дружины, потомки Рюрика имели в себе много доблестей. Имена Воротынского, Шуйского, Курбского (пока он не запятнал себя изменою) и других невольно соединяются в представлении со славными и высокими качествами.
Верно объяснено значение Казани, оплота магометанского мира, и отсюда сочувствие магометанства к Казани.
Странно, что г. Соловьев не упоминает об одном обстоятельстве, о котором говорит Карамзин. От внимания Карамзина не ускользало ни одно явление, могущее быть ему известным, хотя бы он и неверно объяснял самое явление. – Обстоятельство, о котором теперь идет речь, имеет, по нашему мнению, весьма важное значение. Когда Баторий взял Полоцк и Сокол, тогда Иоанн, находившийся во Пскове, послал к государственному дьяку Андрею Щелкалову в Москву, чтобы он собрал в Москве народ и сообщил ему о неудачах нашего оружия, чтобы постарался при этом успокоить народ и утвердить его дух. Щелкалов исполнил волю Иоанна, созвал народ и сообщил ему положение наших дел, не скрывая ничего, но ободряя в то же время. Народ выслушал речь его, и хотя глубоко огорчился неблагоприятными известиями, однако же не потерял твердости, но еще более укрепился духом на перенесение всенародных бедствий. Одерборн (на котором основывается Карамзин), сообщая об этом народном собрании в Москве, созванном по повелению царя, прибавляет, что женщины пришли в отчаяние, что дьяк снова вышел к народу с жалобой на женщин и, чтобы унять их, прибегнул к угрозам. Одерборн приводит речь Щелкалова {1}. В какой степени верно передана эта речь Одерборном – это вопрос другой, но само происшествие, как быль, не может подлежать сомнению. Царь велит созвать торжественно народ, чтобы сообщить ему о неудачном ходе военных дел в России и утвердить дух народный к перенесению всеобщих невзгод. Из этого видно, что правительство древней России было в тесном союзе с народом и уважало народ; из этого видно, что дело России было, по общему убеждению, делом, касающимся до всех русских людей. Вспомним, что велся государственный «Летописец дел России»[27]; вспомним, что Гермоген, дабы остановить народ в действиях его против Василия Шуйского, грозит записать эти дела в «Летописец». Как видно, высоко стоит в нравственно-общественном и гражданском образовании тот народ, с которым возможно употреблять такую чисто нравственную угрозу. Подобные обстоятельства красноречиво говорят за древнюю допетровскую Россию и возносят ее высоко. Как странны, как жалки усилия затемнить ее величавый образ, все бывшее до Петра находить недостойным и ничтожным и только с Петра и через Петра видеть в России все хорошее. Как странно, как непонятно (для нас, по крайней мере) все величие многовековых подвигов и трудов народных приписать одному человеку, хотя бы и гениальному[28].
В заключении книги своей автор дает очерк личности Иоанна. Автор справедливо соединяет Иоанна с его отцом и дедом и видит в нем преемника их государственного дела, продолжателя и совершителя начатой ими борьбы. Что касается до самой личности Иоанна, то кроме того, что это человек страстный, нам кажется, о нем можно бы сказать более.
Иоанн IV был природа художественная, художественная в жизни. Образы являлись ему и увлекали его своей внешней красотой; он художественно понимал добро, красоту его, понимал красоту раскаяния, красоту доблести, – и наконец самые ужасы влекли его к себе своей страшной картинностью. Одно чувство художественности, не утвержденное на строгом, на суровом нравственном чувстве, есть одна из величайших опасностей душе человека. С одной стороны, оно не допустит человека испытать ни одного чувства правдиво, ибо человек, наслаждаясь красотой чувства, им испытываемого, или дела, им совершаемого, не относится к ним цельно и непосредственно; он любуется ими, он любит красоту, а не самое дело. Вот отчего и в истории, и в частной жизни, встречаем мы такие явления, что человек, например, плачет умиленными слезами, слыша рассказ о кротости и великодушии, – и в то же время сам мучит и терзает ближнего; и он не обманывает: эти слезы не притворны; но он тронут, как художник, с художественной стороны, – а одно это еще ничего не значит, на действительность это не имеет влияния. Человек довольствуется здесь одним благоуханием добра, а добро само по себе вещь для него слишком грубая, тяжелая и черствая. Это человек, безнравственный на деле, но понимающий художественную красоту добра и приходящий от нее в умиление. Дело самое добра ему не нужно и не под силу, он чувствует только, как оно изящно хорошо, – и довольствуется этим. Такое состояние почти безнадежно. Ибо тот, кто не понимает добра и не чувствует его, может понять, почувствовать и преобразиться нравственно. Тот же, кто чувствует добро, но только художественно, кто наслаждается его благоуханием, а дело самое откидывает, тот едва ли может исправиться. Здесь мы имеем в виду не художественное чувство вообще, а одно художественное чувство, отвлеченное, без нравственных оснований, что встречается в жизни чаще, чем, может быть, думают. Тогда и дело самое добра, если захотят его совершить, является лишь как картина без своей истины и существенности.
Но есть другая сторона художественности чувства, в свою очередь, губящая человека. Художественное чувство может отыскать красоту и в самом диком и в самом низком явлении. Например, что может быть возмутительнее для нравственного чувства, как образ кромешника, терзавшего несчастные жертвы Иоанновой жестокости? А вспомним стихотворение Пушкина «Кромешник!». Поэт представляет его не в таком свете, но как бы с художественным сочувствием.
В Иоанне была такая художественная природа, не основанная на нравственном чувстве. Она влекла его от образа к образу, от картины к картине, – и эти картины любил он осуществлять себе в жизни. То представлялась ему площадь, полная присланных от всей земли представителей, – и царь, стоящий торжественно под осенением крестов на Лобном месте и говорящей речь народу. То представлялось ему торжественное собрание духовенства, и опять царь посередине, предлагающей вопросы. То являлись ему, и тоже с художественной стороны, площадь, уставленная орудиями пытки, страшное проявление царского гнева, гром, губящий народы… и вот – ужасы казней московских, ужасы Новгорода! То являлся перед ним монастырь, черные одежды, посты, молитва, покаяние, труды и земные поклоны – картина царского смирения – и, увлеченный ею, он обращал и себя и опричников в отшельников, а дворец свой – в обитель. Как трудно тому, кто любит красоту покаяния, покаяться в самом деле!
Мы не говорим, чтобы эта художественность была одна движущей силой в Иоанне (человек вообще есть явление сложное). Нет, много было двигателей его духа; но такова была его природа, и она брала, разумеется, сильное участие в каждом его действии, на многое имела влияние, и многое психологически в нем объясняет.
Г. Соловьев говорит, что иные историки представили его сперва героем, а потом робким и трусом, и говорит об этом весьма неодобрительным тоном. Нельзя не согласиться, что в резком разграничении Иоанна на добродетельного и злодея нет истины, хотя и тут нельзя очень обвинять историков, ибо сам Курбский начинает этим разграничением свое послание к Иоанну, а слова его, как бы ни были пристрастны, не могут быть ни на чем не основаны. С другой стороны, мы не видим ничего удивительного в том, что человек в течение своей жизни, может испортиться, нравственно пасть и быть не похож на себя самого в нравственном отношении. Это самое может случиться и на престоле. В Иоанне точно мы видим нравственное изменение, и хотя не мгновенное, однако довольно быстрое. Стоит снять только узду со своей воли, и порча произойдет скоро. Нам кажется, что порча в Иоанне именно пошла быстро тогда, когда он избавился от своих советников, когда сбросил с себя нравственную узду стыда, когда значение царя слилось в его понятии с произволом, и когда этот произвол явил полное отсутствие воли в человеке, ибо отсутствие воли и необузданная воля – это все равно.
Русская земля вынесла Иоанна, чтобы сохранить свою недавнюю целость и удержать возникающую крепость. К тому же, и это главное, Иоанн нападал на лица, именно на бояр, выгораживая постоянно народ. (На новгородцев он напал, обвиняя их в общей измене.) Ни быта, ни учреждений земских он не трогал. Он слышал требования истории, он исполнял их. Он созвал Земский Собор, и постоянно всюду давал наибольший простор народному голосу и мнению в делах общественных. Между тем не в молчании со стороны древней России проходили страшные дела царя: Иоанн слышал обличения… В этом случае мы разделяем с г. Соловьевым его оправдание древнего русского общества.