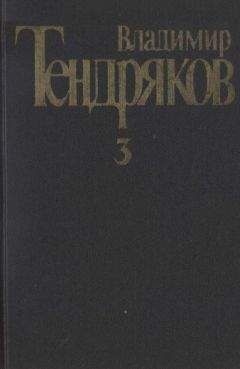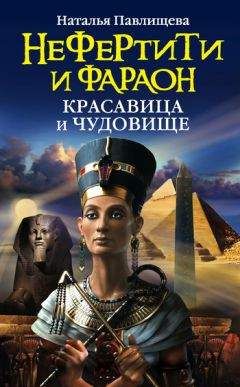Я видел причину ненормальности только в том, что сознание будет чрезвычайно травмировано исключительной человеческой неполноценностью, своего рода сверхинвалидностью, отсюда — психическая угнетенность, апатия и пр. и пр., вплоть до нежелания существовать в виде обрубка.
— А если предположить, что голова Доуэля примирится с человеческой неполноценностью? — спросил Алексей Николаевич.
— Разве с этим можно примириться?
— Почему бы и нет. Откинем в сторону злодейскую интригу вокруг профессора Доуэля, он должен был умереть и знал это. Вместо полного небытия ему предоставляется хоть и сильно ограниченное, но все-таки бытие — может воспринимать мир, даже как-то интеллектуально участвовать в нем. Кой-что лучше, чем ничего. Обладая достаточным умом и волей, не так уж и трудно убедить себя — не обездолен, а даже по-своему счастлив. Предположим такое.
— И что ж тогда?
— А то, что и после этого психика головы Доуэля должна патологически извратиться.
— Даже при условии, что голова станет осознавать себя счастливой?
— Даже при этом.
Я был озадачен:
— М-да-а. «Я мыслю. Следовательно, я существую». Доволен тем. И патология?..
На лице Алексея Николаевича знакомая мне игра — выразительность при бесстрастии, переменчивость при неподвижности, такое впечатление, что складки лица незаметно переменились местами и замерли в затаенном ехидстве. Обычно это случается в предвкушении победы.
— А скажите, Владимир Федорович, — говорит он, — может ли голова Доуэля желать то, чего мы с вами ежеминутно мимоходом желаем — куда-то сходить, что-то сделать и прочее там?
— Нет, конечно.
— А может ли она проявить волю, настойчивость, как мы их проявляем?
— Нет.
— А любить, как мы любим, негодовать, как мы?.. Или мечтать. Владимир Федорович?.. Будут ли сходны мечта головы с мечтами постоянно к чему-то стремящегося, чего-то добивающегося нормально неуемного человека?
— М-да!
— Трудно сказать, какой стала бы психика отсеченной головы, но только не человеческой. А при извращенной психике и нормального сознания быть не может.
— Значит, если б даже удалось создать точную копию мозга, скажем, Эйнштейна, то это заведомо мог быть только свихнувшийся мозг?
Коль мы приняли в игру столь странный фантом — усеченного профессора Доуэля, то уж нет смысла обуздывать разгулявшееся воображение, стесняться фантастического. Алексей Николаевич охотно отзывался на мои эскапады, однако оставался самим собой — трезв, сдержан, академичен:
— Носитель разума не мозг, не отдельный орган, вырабатывающий духовную эманацию, а целиком человек с руками, ногами, деятельный, как никто на Земле.
— Ну, а разве в принципе невозможен эдакий сверхкомпьютер, интеллектуальный монстр без ног, без рук, глотающий информацию, генерирующий знания?
— Знания о чем? — быстро откликнулся Алексей Николаевич. — Об окружающем мире. И на основании информаций, которые добыл кто-то. Тот, кто способен ощущать этот мир. Ощущать не ради самих ощущений, ради того, чтоб разобраться — что полезно, что вредно, а что безразлично. Информация-то монстру скармливается не какая-нибудь, а отобранная, целенаправленная, значит, и знания монстр выдает не какие-нибудь, а необходимые тем, кто наделен способностью ощущать, ими заданные. Выходит, настоящий-то источник разумной генерации вовсе не монстр, он лишь орудие, эдакая интеллектуальная кирка, дробящая гранит, скрывающий золотоносную жилу.
То есть, чтоб получить генератор разума, следует сотворить человека, проницательно заметил я.
Алексей Николаевич помедлил и решительно возразил:
— Нет, человечество!
— А вы недавно называли человека носителем разума, — напомнил я.
— Носителем, а не генератором. Дискретной частицей. Один электрон источником электричества быть не может.
— И все-таки человечество состоит из таких, как вы, генерирующих.
— Да, — согласился он, — но не я заряжаю общество своей генерацией, а общество меня.
— Это еще следует доказать.
— Будь иначе, я бы вкупе с другими генераторами диктовал характер общественной деятельности: так действуй, согласно нашей генерации. Но, увы, никто из усиленно генерирующих людей не может похвастаться, что именно они создали рабовладельческий, феодальный или капиталистический способ производства. Сие самопроизвольно возникло!
Некоторое время мы идем молча. Я перевариваю услышанное.
— Характер труда возникает самопроизвольно, — заговорил я. — Труд в некотором роде, как признано, создал человека. Не получается ли, что деятельность возникла раньше деятеля?
— А что раньше появилось — Солнце или солнечный свет? — спросил Алексей Николаевич.
— Разумеется, Солнце. Не сразу же оно разогрелось, чтоб светиться.
— Ну, а можно ли несветящийся сгусток материи называть Солнцем?
И я сдался:
— Все! Спускаюсь на грешную землю… Здесь приличная кашка. Из-за наших «жомини да жомини» черепаха может оказаться без ужина.
Алексей Николаевич послушно присел — острые колени выше плеч, в позе самосозерцающего кузнечика. А над землей, отягощенной зеленью, топился вечер, яростно пламенный и обморочно тихий одновременно. Наморщив лоб, с вдумчивой сосредоточенностью представитель генерирующего человечества выщипывал из травянистой обочины кашку.
Беседа. Одна из многих. Заранее оговариваюсь — мои отрывочные записи никак не стенографический отчет. Да и нелепо было бы передавать неизбежный сумбур, случайные необязательные отступления, словесную шелуху, сопровождающие обычно любой разговор. Я лишь добросовестно пытаюсь выразить наиболее характерное из того, что осело в моей памяти, свое впечатление, прошедшее проверку временем.
Коллегам профессора Леонтьева, ученым-психологам, по существу наша беседа может показаться поверхностно наивной. Скорей всего, оно так и есть. Не надо забывать, что это не было изложением взглядов как таковых, их последовательной аргументацией, а не более чем разговором на отдыхе двух людей, по-разному воспринимающих жизнь, радующихся тому, что находятся точки соприкосновения.
Покопавшись в памяти, поднатужившись, я, возможно, и смог бы припомнить нечто более содержательное из наших вольных прогулок с Алексеем Николаевичем. Однако случайный разговор, метавшийся от отрубленной головы профессора Доуэля к роли деятельности в сознании, для меня незримо связан с другим… уже последним нашим разговором.
Кто-то заметил, что время после победы коварно для победителя. У Алексея Николаевича выходит книга — результат поисков, собственно, всей его жизни. Но в предисловии он пишет: «…Не могу считать ее законченной слишком многое осталось в ней… только намеченным». Ему семьдесят два года, чтоб достигнуть намеченного, надо спешить, однако силы на исходе, нелегко начать новое восхождение, а помимо всего основная забота по факультету психологии по-прежнему лежит на его плечах. Отдых в санатории «Узкое» лишь как-то подправил Алексея Николаевича. Началась тревожная и тяжелая зима. И она кончается больницей. Одно время состояние угрожающее, но кризис проходит, мне даже удается навестить его. Алексей Николаевич бодрится, шутит, но впоследствии мне признается: помнит нашу встречу смутно, как далекий сон.
В последнее лето мы видимся крайне редко, урывками. Нам мешают не только болезни Алексея Николаевича, житейская суета, мои летние отъезды, но и затяжные дожди. Алексей Николаевич отсиживался в Москве, в наших сырых хвойных местах ему тяжело дышалось.
И в тот день поутру тоже прошел дождь, ветра не было, низко висели тучи, лужи на асфальте блестели тревожно и неуютно. Алексей Николаевич чувствовал себя подавленно, сутулился, глядел в ноги, молчал, выдавливал из себя через силу: «Да, нет…»
Но мы давно не виделись, и я стал его расспрашивать о замыслах. О своих же замыслах Алексей Николаевич спокойно говорить не мог, они, как дрожжи, всегда вызывали в нем брожение. Сейчас — тоже… Слово за слово, голова поднялась, спина распрямилась, голос окреп, в глазах появился блеск, и передо мной, как обычно, начало ветвиться древо познания.
Он заговорил о том, что у него давно уже вызывало сомнение великое противопоставление, на котором держится наше сознание — я сам и весь остальной, окружающий меня мир, субъект и объект, жестко разделенные между собой, не подлежащие смешению. Объект воздействует на субъект, субъект проявляет себя — просто и ясно, знакомо со школьной скамьи.
— Так вот, — продолжал Алексей Николаевич, — заблуждение, что мое «Я» противостоит окружающему миру, бессмысленно рассматривать как то, так и другое по отдельности. Как сила гравитации без массы, как квант света без движения, так и субъект в отрыве от объекта — абсурд!..