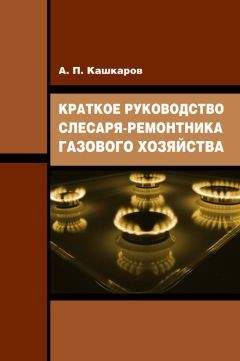Раздумывая обо всем этом, Лаптев все больше утверждался в мысли, что Вьюшкова надо снимать. Каков поп, таков и приход. Утюмов подбирал людей по своему образу и подобию, пестовал их. Едва ли исправишь таких.
Он пытался сопоставить Вьюшкова с Утюмовым и Птицыным. Редко найдешь людей, внешне столь непохожих. Утюмов рослый, поджарый, Вьюшков квеленький, личиком серый, неприметный. Птицын важный такой, прет из него «само начальство». А в общем, у всех троих есть что-то общее, неуловимо схожее, как у мужа и жены, проживших с полвека в супружестве…
На другой день после летучки Лаптев сорвался вдруг, высказал управляющему, что о нем думал.
— Видимо, придется уходить, — обиделся Вьюшков, — нам не сработаться… нет!.. Только прежде поговорю с Максим Максимычем. — Это была угроза.
За два дня они порядком надоели друг другу. Вьюшков, хоть и пригрозил, что подаст заявление, изо всех сил, однако, старался понравиться Лаптеву, ходил за ним по пятам; чтобы не видеть это угодничество, Иван Ефимович, насколько мог, сдержанно говорил ему: «Да не обращайте на меня внимания, работайте. Когда надо будет, я к вам приду».
Он мог бы уехать в Новоселово, до центральной усадьбы совхоза тридцать километров — час езды, но там его никто не ждал, и кроме того Иван Ефимович решил: уж если разбираться, то разбираться основательно; что пользы от того, когда мечешься — в восемь утра на одной ферме, в десять — на другой, перед обедом — на третьей. Одна видимость: дескать, я лихой, активный — там и здесь, всюду успею.
Старушка, у которой Лаптев был на постое, разбудила его в пять утра, и он, поплескав на лицо воды, пошел за околицу. Это было его третье утро в Травном.
Стояла необычная, странная и для деревенского жителя тишина; тонко и резко хрустел под ногами снег, Ивану Ефимовичу показалось на миг, что это не снег, а тонкий лед. Среди высоких, до крыш, сугробов были разбросаны темные дома, едва различимые во мраке, только в свинарнике болезненно метался красноватый свет керосиновой лампы; там уже хозяйничала Татьяна Максимовна.
— Не пугайтесь, не пугайтесь, глупышки, — говорила она мягким голосом. — Чужого боятся. Как дверь заскрипит, так сразу головы приподнимают и ушки настораживают. Увидят, что я пришла, снова ноги по полу вытягивают… А сейчас видите, как озираются. Вскочили. Это они начальства испугались. — Она засмеялась.
Татьяна Максимовна была в полушубке, в темной шали, на бледноватом, усталом лице сверкали молодые насмешливые глаза.
— Вы знаете, у каждой свой характер. Одна только бы спала, а другая бегала бы сломя голову. Посмотрите вон… Чего носится — сама не знает. И так целый день, как заведенная. Есть добрые и спокойные. А вон та, гляньте, вон та… упрямая, как сто чертей. С места не сдвинешь. Так и хочется ремнем по упрямой спине съездить.
— Видать, в строгости их содержите, муштру навели, — проговорил Иван Ефимович, посмеиваясь.
— Ну, разве можно? У меня свиноматки. Всю злость и нервозность я у дверей оставляю…
Она опять засмеялась. Лаптеву тоже стало отчего-то смешно. Так они стояли и смеялись.
Он вспомнил слова Вьюшкова: «Свинье лишь бы брюшко набить поплотнее». Чувствуется, не любит животных.
А Нарбутовских не такая.
Он огляделся по сторонам. Свинарник старый-престарый, дверь покосилась, потолок провис, тесно, убого, а хозяйские руки повсюду заметны: стены старательно побелены, на них видны аккуратные доски и дощечки-заплаты, пол кормушки и поилки чистые и нет того застоялого, густого и едкого запаха, который обычно бывает в тесных плохих свинарниках.
Ему захотелось узнать, что она думает о Вьюшкове, как о руководителе. Спрашивал осторожно.
— Вы все прекрасно понимаете и мне нечего добавить, — ответила Татьяна Максимовна. — Крепко вы вчера… Я с вами полностью согласна. Но вот братец Максим Максимович едва ли согласится.
У ней опять чудно, как у Утюмова, напряглась при разговоре верхняя губа. Он удивился, узнав, что она приходится директору не родной, а двоюродной сестрой, — так много схожего в лицах.
— Скоро закончу институт и уеду из совхоза.
— Отчего же? Специалисты и совхозу нужны. На вторую, на третью фермы…
— С Максимом я работать не буду.
— Почему?
— Не хочется говорить об этом.
Вчера, когда он выступал, Татьяна Максимовна с каким-то по-детски откровенным, все возрастающим интересом смотрела на него, поддерживая его буквально во всем.
— Скоро вот совсем подожмет с кормами, — проговорила Нарбутовских. — Конечно, рабочие дадут и сена, и картошки, но все равно не хватит. И уж лучше бы их на мясокомбинат, пока не подохли. — Она показала на свиней.
«Вот бы ее управляющей… вместо Вьюшкова, — подумал он вдруг. — Настоящая хозяйка. Насмешлива немножко и ершиста, так это не беда. Будет бригадиром — остепенится. Главное, чтоб ее уважали… И по всему видать, уважают… Вьюшков цапается то с одним, то с другим. А эту слушаются».
Вспомнился Птицын. Вот уж действительно противный малый. Любит переспрашивать строговато: «Что вы сказали?», «Что?!», «Не слышу!», хотя слух у него великолепный… Сказал Лаптеву: «Не сработаться нам!» А голос такой, что ждет возражения: «Почему же? Сработаемся». Лаптев же, вздохнув, ответил: «Да, вы правы».
Вьюшков сказал бухгалтеру, Таисье, едва переступив порог конторы:
— Я сегодня слетал в Новоселово. Максима Максимыча, конечно, не видел, а с Птицыным толковал. По душам потолковал.
— А этот… Знает, что ты ездил в Новоселово?
— Так и буду я ему докладывать… Уверен, долго он тут не продержится. Евгений Павлович сказал, что они вышвырнут этого субчика, только ножки сбрякают.
Правда, Птицын не говорил Вьюшкову, что Лаптева «вышвырнут», грубые слова он не употреблял. Однако намекнул: «Не тревожься, все будет в порядке».
Позвонили из Новоселово. Вьюшков приподнял трубку, и на нервном лице его появилась довольная улыбка.
— Этого друга вызывают. Приехал Максим Максимыч. Вот так оно! Так оно, товарищ Лаптев, — хохотнул он и уже с достоинством положил трубку.
На лбу и под глазами у него обозначились тонкие морщинки, и щеки нервно подергивались.
3Когда-то дядя говорил Утюмову: «Счастье само не приходит, за него борются».
И Утюмов боролся.
За пятьдесят с лишним лет много чего увидеть пришлось: будучи мальчишкой, работал по дому — колол дрова, убирал навоз из хлевов, копал картошку, мел во дворе, да мало ли что приходилось делать; лет с шестнадцати вовсю вкалывал в-совхозе — и подсобным рабочим, и слесарем в мастерской был; после войны заочно окончил техникум, стал зоотехником, и вот уже больше десятка лет директорствует. Любит задавать парням внезапные вопросы: «А ты валялся когда-нибудь в мокром окопе?», «А как свистят пули, знаешь?» и, не дожидаясь ответа, сладко усмехался:
— Ничего-то ты в жизни не видел, голубчик. Тебе еще надо учиться да учиться. Ученье — свет, а неученье — тьма.
Подумав, добавлял еще одну пословицу:
— Жизнь прожить — не поле перейти.
Себя он считал бывалым солдатом-фронтовиком, хотя на фронт попал в конце войны и был сперва кашеваром, а потом писарем. Справедливости ради скажем, что он не стремился пойти в кашевары и писаря, так получилось, и он был доволен, что именно так.
Его дед по матери жил в Тобольске, к старости накопил деньжонок, приобрел на рынке убогую лавочку с одним оконцем, но вскоре разорился и помер. Родился Максим уже в деревне, куда увез его матушку бойкий, смазливый унтер-офицер.
Работал отец как вол, оберегая жену-горожанку, но раз как-то, поднимая тяжелый мешок, надорвался и умер во время операции, под ножом неумелого деревенского фельдшера. Вскоре от тифа скончалась и мать, и жил Максимка у дяди, бородатого набожного молчуна, горького пьяницы, зимой и летом ходившего в драном пальтеце и все время почему-то тяжко вздыхавшего.
Мать рассказывала о Тобольске, как о рае земном, где чудо-здания, а над ними золотые купола церквей, «везде, на каждом шагу, такие, такие магазины!», и каково же было удивление Утюмова и разочарование, когда, уже будучи взрослым, приехал он в Тобольск и увидел обычный сибирский город, отличавшийся от других лишь тем, что тротуары и даже площадь выстланы половыми досками. Попадались там дома из корабельного леса, отдававшие древней Русью: просторные, с высокими воротами и еще более высокими сараями. Наличники окон с замысловатой, может быть, несколько крупной и броской, но весьма приятной резьбой.
Утюмов любил похвастать, что «родился в навозе», жил сиротой, получая подзатыльники и пинки, хотя, по правде говоря, не получал он подзатыльников и пинков, дядя-пьяница был добряком. А еще больше любил выйти под окна, почистить канаву, подмести, убрать снег, мог собственноручно прибить доску в свинарнике, пойти в гараж и покопаться в моторе автомашины, чувствуя тайное удовлетворение от того, что люди видят все это.