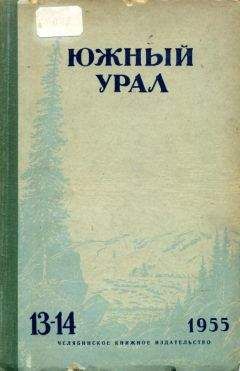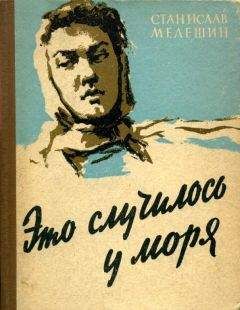Аполлон спотыкнулся. Звякнули трензеля. Чуть не вырвало вожжи. Марфа встрепенулась, но в первый момент все еще находилась во власти воспоминаний. То, что было явью: высоковольтные мачты, кукушка, покачивающаяся на ветке голой осины, кусты черемухи и река, — показалось ей призрачным, возникшим по странной прихоти мозга, а то, что она представила, показалось ей живым, действительным, но по какой-то непонятной причине вдруг исчезнувшим.
— Вот, Аполлон, мы и добрались до брода, — сказала Марфа.
Высоко подымая копыта, вороной вошел в прозрачный пенящийся поток. Он долго нюхал воду и, раздувая плюшевые ноздри, начал деликатно цедить ее сквозь зубы. Марфа наклонилась с одноколки, окунула в переливающиеся струи кончики пальцев. Холодная вода. Если прислушаться, красиво звучит в ней разноцветная галька. Пятнистые пескари заинтересовались колесом, тыкаются в спицы и ободок, пошевеливая усами, вопросительно смотрят друг на друга. Внезапно впереди Аполлона мелькнула крупная рыба. Щука! Пескари сгрудились, сиганули к берегу на самую отмель. Крошечные, а хитрущие! Теперь доберись-ка до них щука!
Марфу развеселила находчивость пескарей. Она озорно плеснула на круп вороного горсть воды и откинулась на спинку одноколки, обитую цветной вылинявшей кошмой.
Со странным ощущением, что она обязательно получит письмо Алексея, вбежала Марфа в пятистенный дом, где помещалась почта. Такое ощущение никогда не покидало ее, хотя горький смысл документов и времени неопровержимо приводил к одному: убит. Оно поддерживалось в Марфе чувством, в котором была огромная вера в чудо случайности: а вдруг он увезен бывшими союзниками куда-нибудь в Аргентину и еще сможет вырваться — и очень мало места вере в смерть самого дорогого человека на свете.
Начальник почты подал Марфе пачку писем, извещений и телеграмм.
— Видишь, все ушли. Задержался из-за тебя. Знал — приедешь, — проворчал он, морща изъеденный оспой лоб.
Начальник почты натянул на голову кепку, кивнул:
— Там тебе, Марфа Алексеевна, письмо с маркой «Девятый вал».
Марфа выскочила из почты, даже позабыв проститься с Андреем Герасимовичем. Едва коснувшись подножки одноколки, она приказала Аполлону:
— Пошел!
Тот слегка вздыбился, взял с места вихревой рысью. Тяжелая грива вороного полоскалась по ветру, шарахались с дороги куры.
Быстрей на простор, в степь, где тишина и одиночество, где коршуны режут небо неустающими крыльями, где колышутся серебряные волны осыпающегося ракитника.
Быстрей на простор, в степь. Надоело держать натянувшиеся вожжи. Хочется бросить их и разобрать письма. Одно из них к ней. От кого? Неужели от Алексея?!
Деревня осталась за бугром. Марфа пустила Аполлона шагом, раскрыла сумку. Ее пальцы дрожали, перебирая письма. Вот показался уголок марки «Девятый вал». Она зажмурилась, выдернула конверт из кипы, а когда открыла глаза, то увидела на нем знакомую вязь букв, наклоненных влево. Сенькин почерк. Красивый, свободный, но нежелаемый. Марфа равнодушно сунула письмо в карман бумажной кофты, и холодное безразличие нахлынуло на нее. Решительно все равно было ей, что вожжи упали на землю и путались в ногах вороного, что он рассердился и встал, недоуменно оглядываясь, что солнце спускалось к сизому краю горизонта.
Долго бы длилось бездумное оцепенение Марфы, если бы не грузовик с изображением буйвола на крышке мотора. Шофер притормозил возле одноколки, высунул из кабины курносое запыленное лицо:
— Эй, красавица, царство небесное проспишь. Не зевай, когда такие парни проезжают, как я, — и лихо сорвал с кудрей матросский чепчик без лент.
Исчез грузовик, улеглась пыль, но осталось бодрое чувство, которое вызвал водитель-весельчак.
Марфа подобрала вожжи, привязала их за кольцо, прикрепленное к передку одноколки, тронув Аполлона, распечатала письмо.
«Дорогая Марфа! Только сейчас я возвратился из университета. Был на встрече нашего биологического факультета с китайскими писателями. С одним из них — поэтом и редактором молодежного журнала — я разговорился на своем плохом английском языке. Я рассказал ему историю нашего колхоза и о судьбах отдельных колхозников. Вспомнил Алешу, вспомнил тебя. Я даже не утаил от поэта твои недостатки. Например, то, что после смерти Алеши ты замкнулась, заметно утратила интерес к жизни. Прости мою откровенность. Ты же знаешь, я ненавижу подавать предмет только с одной красивой стороны, то есть не подлинно естественным и правдивым. Как ни парадоксально, я считаю, что достоинство человека не только в положительных качествах, но и в его недостатках, разумеется, не крупных. Они делают человека живым, привлекательным, интересным. Наличие или отсутствие их показывает, развивается он или стоит на месте и наслаждается собственным совершенством.
После встречи с китайской делегацией я бродил по Александровскому саду. Цветочные клумбы завяли. Правда, ромашки еще держатся. Удивительно живучи. К основанию кремлевской стены намело всяких листьев: и кленовых, и тополиных, и дубовых. Приятно было ходить здесь и думать о том, что через три месяца, в каникулы, мы встретимся. Я помогу тебе овладеть математикой, и летом ты сдашь на аттестат зрелости. А там пединститут и осуществление Алешиной мечты. Скажешь: «Слова, слова, слова. Ты не учитываешь предстоящего экстерна и последующего пятилетнего заочного обучения». Учитываю, милая Марфа, потому что верю в твои силы.
Из Александровского сада я пошел через Красную площадь в свой угол на Степана Разина. Возле полуоткрытых дверей мавзолея стояли недвижно два солдата. Минуя Спасские ворота, я подумал, что, пожалуй, самая священная память о человеке — это осуществление его высоких замыслов.
Хотел было закругляться да вспомнил фразу, которую сказал мне на прощание китайский поэт. Она о тебе: «Я не верю, чтобы женщина с таким любящим сердцем могла остаться несчастливой». Я тоже не верю. Целуй Лену и Горушку. Сенька».
Марфа прижала к груди прочитанное письмо. Гнетущая мысль, годами зревшая в голове, что жизнь не удалась, показалась Марфе чужой, нелепой и обидной. Нет, рано отчаиваться. Рано зачеркивать себя. В сущности, еще все впереди. Кто знает, может наступит новая весна? Пусть не заменить ей коростелиных ночей, не заглушить прозрачный звон колокола, который выговаривал неповторимо «бон-бон-гон-клинг». Но навсегда поселилось в ее сердце прекрасное чувство, что есть у нее дети и заветные помыслы выучиться и воспитывать людей, подобных Алексею.
Упругий сиверко пел в телефонных проводах. Вдалеке, за лесами и озерами, звал куда-то гудок паровоза. И хотя по вечернему лимонному небу плыли серые тучи, чудилось — не скоро еще начнутся хмурые осенние дожди.
НЕМАЛО СЛОВ РЖАВЕЕТ НА ВЕКУ…
Немало слов ржавеет на веку
Из тех, что подыскал ты для оправы.
И проверяешь временем строку,
Как проверяют кислотою сплавы.
И счастлив ты, когда твоя строка,
Одна строка, как будто долговечна,
Хоть эта радость коротка —
Проверка бесконечна.
В ТАКУЮ НОЧЬ НЕ СПАТЬ, А БРЕДИТЬ…
В такую ночь не спать, а бредить,
Марать листы, курить подряд,
Не слыша, как ворчат соседи
И что соседи говорят.
Устать, отчаяться и снова
Писать и черкать вкривь и вкось,
И вдруг понять, что э т о слово,
Что слово нужное нашлось.
И, позабыв и стыд и совесть,
Будить родных и звать к огню,
Узнав в десятый раз, что повесть
Вконец измучила родню.
Качается дубок в ненастье,
Его, беснуясь, буря гнет,
А он, прямой и коренастый,
Упрямо к солнышку растет.
Он вытянется к небосводу,
И люди скажут про него:
— Мальчишка выжил в непогоду, —
Ему не страшно ничего.
СКАЗАЛИ МАЛЬЧИКУ В РАЙКОМЕ…
Сказали мальчику в райкоме:
— Не можем, брат. Не обессудь…
И вот он вновь в отцовском доме,
Лежит и — нету сил уснуть.
В его мешке, в порядке строгом:
Тетрадка, книга, кружка, нож —
Все, что хотел он взять в дорогу
И что теперь уж не возьмешь.
В тетрадке — вырезки и схемы
Уже, выходит, ни к чему, —
Нет, не ему пахать со всеми.
Пшеницу сеять не ему.
Печально дождик бьется в стекла
Глядит малец из-под бровей:
«Земля как следует намокла б,
Для урожая нужно ей…»
…Пускай мальчишке отказали —
Годами вот не вышел он —
Пусть на попутном самосвале
Не он отправился в район,
Не мок в палатке, не печатал
В стенной газете слов: «Дадим!»,
Пусть не о нем грустят девчата,
И нету подвигов за ним, —
Но путь прожитый не напрасен:
Пусть мальчик мал — он сын страны,
Он своего дождется часа,
Своей работы и весны.
Наш путь вперед не прост, но ясен,
И всем нам хватит целины.