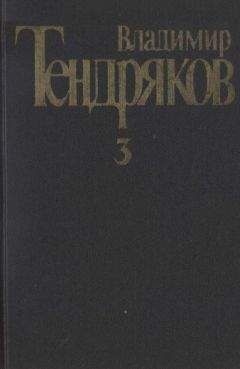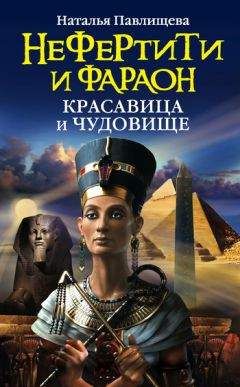Сбились, запамятовали слова, незлобливо переругнулись, затянули другую:
Эх ты, Галю, Галю молоденька!..
Их накрыл шестиствольный миномет уже у наших окопов, песня оборвалась, попадали в снег… Мины рвали на клочки мерзлую землю, степь дергалась от огненных всплесков. Над хмельными головами исчезло темное небо.
Едва кончилась первая партия выпущенных мин, как снова раздался несмазанный скрип — шестиствольный миномет посылал новые мины. И снова заснеженная земля выворачивалась суглинистой изнанкой…
Ответили наши минометные батареи, ударили с тыла орудия. Вовсю заговорили онемевшие автоматчики…
До утра не успокаивалась взбаламученная передовая.
Я в это время спал.
Утром перед нашей землянкой вырос Витя Солнышко — лицо серое, глаза тусклые, ворот шинели в черной крови, в пятнах засохшей на шинельном сукне крови плечо и грудь.
— Витька! Ранен?
— Угу.
И, шатнувшись, обессиленно повалился навзничь.
Я бросился за санинструктором.
Подвернулся фельдшер, тонкий, ловкий, с кошачьими, ласковыми движениями. Распотрошив свою сумку, он обмыл шею, положив голову Солнышка на колени, быстро перебинтовал.
— Жив? — спросил я.
— Наполовину.
— Умрет?
— Вряд ли.
— Рана опасная?
— Самая чепуховая — кожу на шее осколком рассекло.
— Но что с ним? На ногах не стоит.
— Не удивительно. Мертвецки пьян.
Мне удалось засунуть Витю Солнышка под нары, в самый дальний угол, пока начальство хватится, авось очухается.
И начальство хватилось. По телефону передали: сержант Степанов убит наповал в голову, незнакомый пэтээровец умер на ротном КП, ему осколком вырвало живот.
В батальон срочно прибыл лейтенант Оганян, заглянул под нары, покачал головой, почмокал губами:
— Нехорошо… Ка-кой молодой!.. А?.. Что из него дальше будет? Порядочный человек или негодяй?
Меня же волновала не столь далекая судьба Вити Солнышка, а та, которая должна решиться в ближайшие дни. Так просто с рук не сойдет, передадут в военный трибунал. Мне тоже достанется…
А из-под нар время от времени высовывалась рука, грязная, цепкая, как лешачья лапа, хватала протянутый котелок, потом несколько минут из подвальной глубины слышалось сопение, чмоканье, чавканье — пустой котелок вылетал наружу, и снова — тихо; до тех пор пока кухня не станет раздавать обед, жив Витя Солнышко или почил в мире, никому не ведомо.
Оганян обещал прислать мне нового человека, но не успел.
Подняли — вперед!
Витя Солнышко вылез на белый свет, грязный, опухший от своего медвежьего сна, как сытый кот, добродушно жмурящийся на суету. Он решительно натянул на себя лямку упаковки питания.
В наступлении некогда разбирать внутренние неурядицы — шагай вперед, не оглядывайся вокруг. Но после-то наступления — оглянутся, вспомнят, возьмут Солнышко за воротник.
А Солнышко полностью ожил, а ожив, стал допрашивать меня с пристрастием:
— Ты ром пил когда-нибудь?.. Не-ет. А я вот попробовал.
В наступлении батальонный радист должен находиться рядом с командиром батальона — не отставай ни на шаг.
Наш комбат-два, капитан Гречуха, долговязый, сутуловатый, подбородок в мрачной щетине, хотя был щеголем — и брился каждый день, и в самые сильные морозы ходил только в хромовых сапожках.
Мне казалось, что в этого человека просто природа позабыла вложить чувство страха; случалось, он хватал ручной пулемет и вместе с солдатами шел в атаку, полосуя на ходу из пулемета. Солдаты его боялись куда больше, чем целого батальона немцев.
Он лез в самое пекло, за ним лез и я, да еще должен глядеть краем глаза, чтоб Солнышко, несущий упаковку питания, не сбился с пути, не закатился бы куда-нибудь на сторону. Комбат Гречуха длинноног, всей ноши у него пистолет да планшетка, а рация весила изрядно. Поспеть за комбатом можно было лишь при отчаянном усердии. И мы усердствовали, всегда поспевали. Но самое обидное: комбат никогда не обращал на нас внимания, не пользовался радиостанцией.
Он не боялся пули, но недоверчиво относился к снарядам: «Прихлопнет не узнаешь, кто тебя стукнул…» (Словно, если узнаешь, от этого легче.) Развернутая радиостанция вызывала у него раздражение:
— Раскорячились. Запеленгуют, лови тогда снаряды… А ну, подальше с этой шарманкой!
И вот мы ему понадобились.
Роты залегли перед маленькой станциюшкой. Впереди ровное место, пересеченное железнодорожными путями, густо-бурачного цвета водокачка, голые деревья окружали две копотно-черные трубы — место бывшего станционного здания.
С водокачки бил пулемет, заткнуть его можно было только артиллерийским снарядом.
Капитан Гречуха ругался, обещал снять семь шкур с каждого телефониста — они путались со своими катушками где-то далеко в степи.
И тут-то Гречуха вспомнил:
— Где здесь эти, с ящиками?
По цепи метнулась команда:
— Радистов к комбату!
Метнулась и заглохла, потому что я находился рядом.
Быстро выкинул штыревую антенну, раскрыл приемопередатчик и с досадой оглянулся, почему Солнышко не подсунул мне под руку вилку от кабеля с упаковки питания. Но ни Солнышка, ни упаковки питания, увы, не было.
— Солнышко! — в отчаянии позвал я.
И кругом засмеялись. Но из-под сросшихся бровей молча смотрели на меня темные глаза комбата, в них-то смеха не было.
— Солнышко!!
Кто-то спросил в стороне:
— Может, тебе заодно и луну с неба?
Комбат глухо произнес:
— Ну!.. Есть связь?..
Если б у меня под рукой был пистолет или автомат, я бы в эту гнуснейшую в моей жизни минуту, не задумываясь, пустил себе пулю в лоб. Но пистолетом я пока не обзавелся, а автомат мы держали один на двоих — таскать на шее и радиостанцию, и увесистое оружие тяжеловато. Автомат мы носили по очереди, сейчас вместе с ним, как и с упаковкой питания, где-то гулял Солнышко.
— Ну?
— Связи нет и не будет, — ответил я. — Расстреляйте меня.
— Почему?
— Помощник сбежал с половиной рации.
Комбат пошевелил кобуру на поясе, сказал:
— Тебя, сморчка, я не трону. А твоего помощничка — уж добьюсь — в расход пустят.
В это время подоспели обливающиеся потом телефонисты, протянули нитку. Расторопно подключили аппарат, деловито стали вызывать:
— «Левкой»! Это «Ромашка»… Сидим в квадрате сорок пять. Мешает водокачка. Срочно подбросьте «огурчиков».
И «огурчиков» подбросили…
Через сорок минут мы захватили станцию. Я уже не бежал в хвосте у комбата. Я ненавидел Солнышко, в эти минуты мне было нисколько не жаль, что его расстреляют. А то, что это случится, сомневаться не приходилось: комбат-два слов на ветер не бросал.
Мы только что расположились под разбитой «огурчиками» водокачкой, телефонисты едва успели заземлить свой телефон, как раздался голос:
— Товарищ капитан! Гостей ведут!
Комбат поднялся, в его неподвижно-тяжеловатом, с мрачным подбородком профиле я заметил легкое удивление.
Через покалеченный, тощий пристанционный скверик вышагивали два немца, и, видать, не простые солдаты. Один, подтянутый, высокий, с непокрытой благородной седой головой, глядел в землю. Второй, поплотней, пошире, в кепи с наушниками, в длинной, заплетающейся в ногах шинели суетливо оглядывался и спотыкался на каждом шагу.
Высокий и седой шел как-то скособочившись. Я вгляделся и ахнул: немецкий офицер нес нашу упаковку питания. Да, нашу! Уж ее-то я мог узнать издалека.
Немцы подмаршировали ближе. Сзади них, с автоматом в одной руке, другой почтительно придерживая на весу толстый портфель из желтой кожи, вышагивает Витя Солнышко. Рожа, что полная луна в майский вечер, так и светится, на груди болтается новенький электрический фонарик — видать, только что снял с офицера, нацепил на себя. Рожа сияет, а грудь — колесом, словно украшена не фонариком, а орденом. И этот солидный портфель — для министра, не ниже.
— Стой!.. Эй, проходимцы! Вам говорят!.. Хальт!
Немцы остановились перед нами. Тот, что нес нашу упаковку питания, смотрел по-прежнему в землю, второй со страхом уставился в заросший черной щетиной подбородок капитана.
Витя, перекинув через плечо автомат, козырнул свободной от портфеля рукой:
— Товарищ гвардии капитан, разрешите доложить!.. Вот эти по балочке умотаться на машине хотели… Задержал, словом.
— Где? По какой балочке?
— Да тут, за станцией. Без дороги чешут, сволочуги. Я очередь дал, стекло разбил, шофер носом клюнул… А вот эти сидят как сурки, глаза таращат, пистолеты держат, а не стреляют… Ну, я им пригрозил: «Вылезай, буржуазия!»
— Молодец!