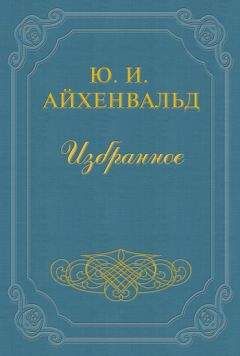Вообще, счастливо видеть, как у Толстого сквозь рассуждения и морализации его позднейших книг прорывается, словно луч неугасимого солнца, прежняя сила художественных очарований. Пусть, например, тенденциозно «Воскресение», пусть иные его страницы публицистичны, но всю эту преднамеренность искупает и в красоту, в последнюю эстетику, претворяет, священная скорбь, проникающая книгу, выстраданное недовольство современным строем жизни, которая чахнет под взглядом «оловянных глаз» какого-нибудь деспота. Примечательно зрелище, что, старый, Толстой – с молодыми, со всеми этими «альтруистическими личностями», что все эти юные политические преступники, наивные мечтатели и утописты, как благородный Симонсон, который женится на Кате Масловой, для того чтобы «эта пострадавшая душа отдохнула», – что все они имеют его на своей стороне.
Теперь мы знаем, что эти делатели революции ввергли свою страну в бездонную пучину страдания. Но поскольку есть правда в отрицании государственности вообще (а частичная правда в нем есть) и старой русской государственности особенно, поскольку бездушие знаменуют те «светлые пуговицы», какие претили Толстому, постольку был он прав в своих симпатиях к молодой России. И трогательно видеть его ласковое внимание к этой молоденькой девушке с энергичным лицом и короткими волосами – Толстой, седой и мудрый, рядом с нигилисткой, Толстой, с улыбкой выслушивающий речи, «пересыпанные иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах, секциях и подсекциях»! Он отрицает политическую революцию, он не может не отрицать ее; но, например, в рассказе «За что?» явил он всю красоту борьбы за свободу, и, сам недовольный всей совокупностью мировых учреждений, Толстой в сущности, – самый страстный бескровный революционер, потому что он требователен к отдельной личности, всего ждет как раз от нее, только от нее ждет ее преображения – он ищет внутреннего переворота. И потому, что он, которому было так много дано, хотел так много и от каждого из нас, мы бессильны были осуществить его надежды и требования; и, как моралист и человек, переживал он горькую драму: он говорил, мир не слушал, мир продолжал свое неправое дело и даже отлучал от себя, от своей частной церкви, своего изобличителя – забыв, что опровергнуть Толстого можно лучше всего аргументами из него самого; забыв, что это именно он, в своих лучших созданиях, осветил немеркнущей поэзией и «скрытую теплоту патриотизма», и личность русского царя (Александра I), и доблесть воина, и церковную службу (молитва Наташи, венчание Кити) – все то признанное и традиционное, к чему он потом переменил свое отношение и за отрицание чего поносили и кляли его прославленное имя. Не приняли во внимание, что у него есть своя литургия, свое богослужение: это err художественное творчество, которое по духу своему так религиозно и консервативно, как консервативна сама природа, и которое проникнуто глубоким утверждением божеских и человеческих ценностей. Именно художественное строительство самого Толстого, вопреки Толстому-теоретику, показывает нам, что личность – это вовсе не революционная и цельная душа, которая все может, на которой не почило прошлое, которой не осилили история и оцепеневшие формы быта, и собственная нестройность; в этом смысле далеко не совпадают сложный и слабый человек в понимании Толстого прежнего и прямолинейный человек в понимании Толстого новейшего. Впрочем, быть может, как раз художественное наитие и открыло ему когда-то самые глубины людских возможностей и внушило ему надежду на них и непоколебимую веру в их реализацию, в грядущее царство любви? Как художнику явился впервые Толстому человек и, несмотря на свою нецелостность, перед ним оправдался. Прежде чем в Толстом оказался мыслитель и учитель, он был поэт.
И тем печальнее, что свою поэзию, правду своих непосредственных вдохновений, Толстой хотел разрушить и себя как художника сурово осуждал. Дивный ток душевности льется от его страниц; жизнь и люди, даже разоблаченные, в его психологической живописи ярко осенены светом счастья и умиления; с глубиной и простотою в чистом ореоле показаны и миниатюры, и бесконечные перспективы духа, а сам создатель всей этой живой радости угрюмо отказывался от своих творений. Его, жизнедавца, его, подателя неисчислимых утешений, могучего, великого, с благословениями окружало человечество его книг, у подножия его духовного престола восседали с любовью и лаской все эти Пьеры, Болконские, Анны Каренины, все эти дети и девушки, незабвенные Кити, Маши, Наташи, которых он воззвал к бытию, к «семейному счастью», в которых он вдохнул прекрасные сердца, и все они, благодарные за жизнь, припадали к его старой отцовской руке и молитвенно простирали руки к нему, своему Богу-Отцу с седой бородою, – а он отворачивался от них, не смотрел на них и, недовольный, неблагодарный к своему гению, как новый Гоголь, нравственно сжигал свои не мертвые, а живые души…
Но если священные предания учат нас, что Бог создал мир, то нет такой легенды, которая бы говорила, что Бог взял мир обратно. И Толстому не удалось разрушить то, что он сотворил, и грядущие поколения будут приникать к его животворящим книгам с такими же слезами восторга и счастья, какие знали и мы, и те, которые были до нас. Нельзя сопротивляться стихийной силе таланта; своей гениальности потушить нельзя. Может быть самоубийство человека, но не самоубийство художника. Проповедуя непротивление злу, Толстой зато противился добру – добру своего дара; но, к счастью, в этой битве с собою он был собою осилен.
Это нисколько не исключает того, что Толстой нам дорог весь – не только в своем художественном центре, но и на всей своей периферии. Можно, и даже должно, не принимать его мировоззрения, но нельзя не принять самого типа его личности. Когда подходишь к ней, тогда уже не делишь Толстого на художника и мыслителя, тогда высоко ценишь целое. Книги его можно разделять – сам он, как живой образ, неделим. И в этом отношении среди обильных психологических красот, среди прекрасной выразительности, отличающей повесть «Нет в мире виноватых», так важны и такого глубокого смысла полны субъективные признания Толстого. Вот он говорит: «…тем-то и страшна жизнь, что телесные поранения, всякие болезни не забываются и заставляют страдать и бороться; поранения же нравственные, духовные сглаживаются для людей, не живущих духовной жизнью, сглаживаются просто течением жизни, мелкими интересами обихода, засыпаются мелким сором обыденной жизни». Когда-то он бы этого не сказал; когда-то он не сетовал на Наташу Ростову, а благословлял ее за то, что смерть Болконского, это «нравственное поранение», эта духовная рана, у нее зарубцевалась; и целительные силы жизни, ее «образуется» он не решился бы отожествить с мелочами и сором обыденности. Но чем дольше он сам жил, тем страшнее, именно страшнее казалась ему наша способность заглушать свои духовные боли, наша удобная способность привыкать. И величие его как человека сводится именно к тому, что над ним привычка не взяла верха. Он успокоиться не мог. Он упорно искал выхода из жизненных тупиков, безустанно решал мучительные задачи, хотел сломить социальную обиду и неправду. И то, что в мире нет виноватых, что есть целая система преступности, круговая порука зла, – это не утешало его. Он искал. И, не находя спасения и чувствуя, что вместе с другими влечет его самого волна повседневности, он, старый, приходил в отчаяние. И неотразимо действует его жалоба на самого себя, его сокрушение, что он не имеет сил уйти из своей беспечной, но «развращающей, преступной» среды. Когда же эти силы явились к нему и он ушел, тогда он умер. Но многих смерть застает уже мертвыми, – Толстой умер живым. «На девятом десятке, ослабевший телесными силами… все сильнее и сильнее сознавая всю преступность своего положения, я все более и более страдаю от этого положения». На девятом десятке… Казалось бы, в эти годы можно бы уже успокоиться и привыкнуть к себе, – мы это делаем гораздо раньше… Но вот Толстой к жизни и к себе не привык, на жизнь и на себя не махнул рукою и унес к тому Богу, в которого он верил, душу непривыкшую и неуспокоенную, душу требовательную, душу поистине бессмертную. И когда думаешь об этом, то он восстает перед нами весь, единый, цельный и великий.
Россия много виновата перед человечеством и человечностью; но, может быть, стоит ей назвать этого одного человека, стоит ей положить его создания на весы последней мировой оценки, чтобы тотчас же поднялась тяжелая чаша ее преступлений и грехов. И потому одинокая бескрестная могила, которая находится там, в прекрасной в Ясной Поляне, видна со всех концов мира, и через Ясную Поляну проходит теперь первый нравственный меридиан земного шара. Могильный курган Толстого, курган старшего русского богатыря, будет всегда привлекать к себе взоры и духовные паломничества людей. Мы же, соотечественники Толстого, дети его земли, с ним дышавшие одним воздухом, – мы особенно бережно и благоговейно, как скрижаль завета, пронесем через жизнь нетленными буквами записанное в наших сердцах имя своего первого человека, царственное имя своего усопшего Льва, и через грядущие поколения передадим его бессмертию, посвятим Истории. А История – это вселенский собор, вселенская церковь, которая не бренным судом, не условными признаками отличает еретиков от правоверных, в которую доступ имеют отвергнутые прихожане возвышенных религий, богомольцы непризнанных идеалов, и эта церковь никогда не отлучит Толстого от своего священного лона, и эта церковь сотворит ему поистине вечную память!..