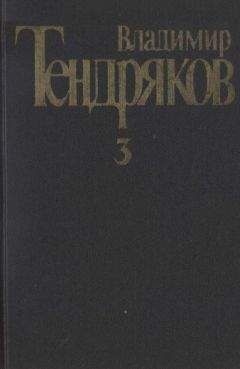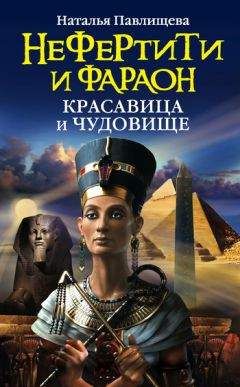Оглядываемся назад, на свое прошлое, но даже поезда, который нас привез, уже нет, спешно отбыл, чиста степь. Порвано с прошлым. Марш! Марш! К линии фронта!
Мы уже встречались с теми, кто уже успел побывать возле нее, жадно расспрашивали, но эта линия, пересекающая теперь нашу страну от Черного моря до Ледовитого океана, так и осталась загадкой из загадок. Никому не по силам было рассказать о ней. Скоро ее сами увидим. Она там, где небо смыкается со степью, но как ни размашиста степь, а часа за два пересечем ее. Тянут кони пушки, мы идем.
Вбивая в слежавшуюся пыль тупые короткие ноги, шагает наш помкомвзвода Зычко; из пухлой спины растет крутой, как булыжник, подбритый затылок. Время от времени Зычко оборачивается всем сбитым корпусом, хозяйски озирает нас недремлющими совиными очами.
— Пыд-тя-нысь!
Так, для порядку, никто не отстает. После долгой жизни в тесной теплушке приятно размяться по свежему занимающемуся утру.
С ленцой, в развалочку выступает Сашка Глухарев, рослый разведчик. С него хоть картину пиши образцово-показательного бойца — комсоставский ремень туго стягивает тонкую талию, гимнастерочка заправлена без морщинки, на широком плече небрежно болтается карабин, на бедре шашка, на ногах не кирзачи, как у всех нас, а яловые, гармошкой, еще не тронутые пылью сапоги. И лицо у Сашки внушительное, треть его уходит на квадратный подбородок с тщательно выбритой ямкой посередине. Даже Зычко остерегается командовать Сашкой, а сам командир дивизиона майор Пугачев при встрече здоровается с ним за руку.
Как всегда, рядом с Сашкой Чуликов, тоже разведчик, но совсем другого покроя. Поход только начался, а он уже в запарке — мотня галифе сползла до колен, сапоги с широкими голенищами воюют нескладно со свисающей шашкой, острый нос из-под каски напряжен. Спотыкающийся на каждом шагу Чуликов студент из Москвы, и никто лучше его не делает расчет для стрельбы: без всяких таблиц мгновенно соображает в уме и никогда не ошибается. Сашка опекает Чуликова и забавляется им.
— Чуликов, у тебя баба была?
— Пошел к черту!
— Нет, серьезно, сколько их перебрал за жизнь?
— Не считал.
— Так много? Со счета сбился!
— Отстань, жеребец!
— Отстаю, Чулик, отстаю. Ты вон каков, со счету сбился. Где мне за тобой угнаться.
Плечо в плечо со мной телефонист-катушечник Ефим Михеев, над костистым носом кустистые пшеничные брови, закрывающие глаза. Молчун, хозяйственный мужичок-кулачок, Ефим частенько выручает меня по мелочам. Отвалилась пуговица от гимнастерки, потерялась звездочка с пилотки, нужна чистая тряпочка для подворотничка — все появляется из его вовсе не объемистого вещмешка. По армейской разнарядке я его прямой начальник, но он зовет меня сынком, а я его батей. Мне никогда не приходится ему приказывать, да и просить тоже. Батя раньше меня соображает, что нужно выполнить, и выполняет на совесть.
Сейчас к нему липнет Нинкин — тоже мой телефонист, тычет под костистый нос ножичек с наборной ручкой.
— Вещь али не вещь? Взгляни.
Ефим молчит, не смотрит.
— За одну ручку осьмушку отвалят. Мастер делал.
Ефим молчит.
— А я с тебя на пять заверток табачку прошу. Грабь, пока не раздумал.
Ефим выдавливает ухмылочку.
Нинкин мал ростом, суетлив, физиономия смуглая, нос с горбинкой, густые, сросшиеся над переносицей брови. «Меня мама с цыганом прижила». Наверно, так оно и есть. Сейчас Нинкин в подозрительно замасленной гимнастерке, потасканные галифе с аляповатыми заплатами на коленях, да и вместо сапог стоптанные башмаки с обмотками. А ведь на формировке всех обмундировали в новенькое. И уже можно не сомневаться, запасной пары белья в мешке Нинкина нет. Все он изловчился сменять, пока ехали к фронту, на самогон да «на закусь».
Степь вздрогнула, шевельнулась, зарумянилась полосами, старчески покрылась морщинами. Все заоглядывались, все, даже ездовые на конях. И на медных лицах радостные розовые оскалы. Краешек солнца, оторвавшись на пядь, висел над землей. Багровый глаз изумленно взирал на нас. И даже взбитая на дороге пыль зацвела.
Но это происходило у нас за спиной, а там, куда мы шли, — марш! марш! — упрямо держалась угрюмая просинь, ночной неразвеянный осадок. Солнце подымется вверх, привычно прошествует по небу, и закатится оно там. Но мы опередим его, там будем много раньше. Вкрадывается тихая до ужаса мысль: кто-то из нас не доживет до заката. Идем в бой, боев без жертв не бывает.
Уверенно вбивает короткие ноги в дорогу помкомвзвода Зычко. С ним у меня старые счеты, еще по дивизионной школе — и там был моим помкомвзвода, постоянно гонял по нарядам.
Красавец Сашка Глухарев легко несет себя по земле, еле поспевает за ним путающийся в шашке Чуликов.
Нинкин пристает к бате Ефиму:
— Три завертки табачку. Грабь, жила!
С ними на марше и я.
Кто-то из нас… И никто почему-то не обмирает от неизвестности. Идем в бой.
3
Возле нас вспыхивает веселье…
Сзади натужно вызревает солнце, на дороге зашевелились тени, степь улыбчиво рдеет местами, высокими взлобками, низинки же, как озера, заполнены тающими сумерками. И тронулся ветерком воздух, прогладил по степи, в ней серым козликом заскакало перекати-поле, спутанный клубок колючек. Радостен белый снег, прекрасна выпавшая тебе жизнь.
Огневики не выдержали, попрыгали со своих насестов — приятней шагать, чем трястись на лафетах. Они сразу внесли оживление в колонну, заметили отчаянно воюющего со своей шашкой Чуликова.
— Эй, разведка, продай селедку!
Это избитый повод для шуток, но вовсе не безобидный для разведчиков. По старой традиции разведчикам в артиллерии на конной тяге положены кавалерийские шашки. Их выдали, а коней нет. Шашки старые, в облезлых ножнах, тупые, как доски, тяжелые, что стволы противотанковых ружей, украшеньице. Что может быть нелепее, чем кавалерист без коня. Конями же в походах пользуются орудийные расчеты, не снабженные шашками. Кому досада, кому забава.
Приятель крикнувшего участливо спрашивает:
— И зачем тебе, Вася, селедка?
— От мух отмахиваться.
Огневики ржут, разведчики помалкивают.
— Вынь клинок, фараон, че зубы скалят.
— Ой, ой! Разбежимся. Кто из пушек стрелять будет?
— Они селедками немецкие танки порубят.
— Как бы не затупились.
— Наточат. Эвон у Зычко зад — что жернов.
Зычко вышагивает, выставив грудь, презрительно воздев подбородок — бог и царь в своем взводе, над разудалыми огневиками он власти не имеет. Но Чуликова смутила столь наглая дерзость, в очередной раз спотыкается о злосчастную селедку и…
— Ох-ох! Не порежься!
— Га-га-га!..
Все грохнули — растянулся.
Смеемся мы, связисты, смеется Сашка, смущенно улыбается подымающийся Чуликов. Ему сочувствуют:
— Сестричка-то с норовом, солдатик.
Один Зычко хмур и важен, топчет дорогу, не обращает внимания на веселье.
Высокий тенор полудурашливо-полувсерьез заводит:
Солдатушки, бравы ребятушки,
Кто же ваши сес-стры-ы?..
Несколько бодрых голосов охотно подхватывает:
Наши сестры — сабли востры,
Вот кто наши сес-стры-ы!..
Пожарно разгораясь, пошло, пошло по колонне. Вступают и те, кто вдали, в веселье не участвовали:
Наши гости лезут сюда в злости,
Раз-зомнем им кос-сти-и!
Без спешки, уверенно вступают в ременной оснастке кони, качаются стволы орудий. Степь все румянится и румянится, молодеет, яснеет и раздвигается небо, к нему несется счастливо заносчивый — трын-трава! — вызов:
Наши пушки — тоже не игрушки.
Грянем в наши пуш-шки!
И я, безголосый, самозабвенно пою. Легок мой шаг, просторно в груди, высоко держу голову, радость жизни распирает меня. Впереди война, кого-то из нас ждет смерть, идем ей навстречу — и трын-трава, все нипочем. Знать, правда, есть что-то сильней смерти.
Первое серьезное открытие в наступающем дне.
4
Дорога оживилась. Только что шли одни, вольно шагали — марш! марш! — и не заметили, как стало тесно. То и дело слышится скачущая по колонне команда:
— Принять вправо!.. Вправо принять!..
Нас обгоняют танки, устрашающе высокие «КВ», обдают пылью, бензиновой гарью, натруженным теплом, земля дрожит, до того тяжелы ходячие крепости. Они в лязге и грохоте исчезают вдали, будут раньше нас. Давай, родимая силушка, выручай страну, а мы поможем: «Наши пушки — тоже не игрушки…»
— Принять вправо!
Нагруженные грузовики один за другим. Уступи мотору, конная тяга! Ездовые усердствуют кнутами: