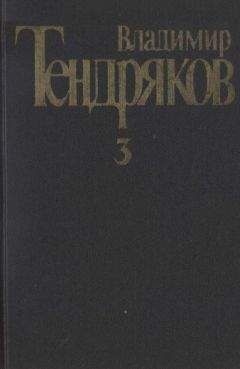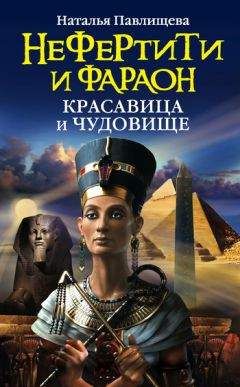— Да, — сказал я мстительно, — лежит на склоне.
Сказал и пожалел. Сашка отвернулся, плечи обвалились, широкая, пятнисто-мокрая спина обмякла. Он хотел бы, да не может быть другим, врожденный порок сильней его. Я ударил ниже пояса.
— Ладно уж, передохни, я порою.
— Т-ты!! — Сашка развернулся, кинулся на меня, выхватил лопату. Ид-ди ты к… — зло, взахлеб выругался.
В это время раздалось то, чего я давно ждал:
— Связи нет!
Смачкин повернул ко мне опаленно-медное лицо.
— Вот так, сержант. Двигай!
Чуликов расстегнул ремень, в гимнастерке распоясанной блаженно растянулся под треногой.
— Будем загорать, товарищ лейтенант… Что там о снарядах говорили?
Пристраиваясь к Чуликову, Смачкин ворчал:
— Ни черта не понял. На полуслове оборвалось… Везут… Почему везут?.. Не могли же весь запас выпустить… Да потеснись ты! Не по чину развалился…
До чего же уютно на НП, здесь даже пули вроде бы поют высоко. У самой передовой, а война стороной обтекает. Так не хочется отрываться от своих, но связисту на фронте часто приходится воевать в одиночку.
…………………………………………
Еще раз пришлось встретиться с Нинкиным. Мимо него я скатился вниз, счастливо не замеченный снайпером. И сразу же забыл… Да, забыл Нинкина и потом почти не вспоминал о нем. Многих пришлось мне оставить в войну — на обочинах дорог и в развороченных окопах, у речных переправ и на разбитых улицах Сталинграда, на зеленых лугах под малоизвестным местечком Батрацкая Дача. Нинкин из них был вовсе не самый мне близкий. И только спустя несколько десятилетий он стал всплывать в памяти каждый раз, когда мне приходилось останавливаться у могилы Неизвестного солдата. Он, первый из мною потерянных, — Нинкин.
11
Кабель тянется через степь, несложное хозяйство, оно вышло из строя, и я отвечаю за него. Кабель тянется через степь, уводит меня в тыл.
Я прополз на животе каких-нибудь триста метров и понял, что миновал опасную зону, поднялся на ноги. Меня уже не увидят из немецких окопов, ни снайпер, ни пулеметчик не возьмут на мушку, может настичь лишь шальная пуля, а от шальной прятаться бессмысленно. Никто мне не говорил, где тот рубеж опасного и безопасного, я сам его определил. И никто не учил меня, как угадывать по свисту мины, далеко она упадет или близко. Ни в одном уставе этого не записано. Но я угадываю, рождается свист, я иду, свист нарастает, не знаю, где именно взорвется мина, знаю только, не рядом со мной. Слышу взрыв и даже не оборачиваюсь в его сторону. Но вот свист с некоторым давлением, не спешу падать, он еще должен показать себя… Показывает, близко не близко, однако на всякий случай припадаю к земле, мина коварна, ее осколки разносятся по поверхности, поражают издали. Снаряд бьет сильней, но не столь опасен, выносит вверх и земляное крошево, и осколки. Иногда нарастающий свист резко обрывается — немедля падай, вжимайся, только это спасет тебя от близкого взрыва.
Всего несколько часов я на войне, но уже мню себя обстрелянным солдатом, настолько, что начинаю верить в свою неуязвимость. Особенно здесь, отступя от передовой. Здесь визжат пули, рвутся мины и снаряды, но для меня это уже тыл.
Вот наконец-то и памятная дорога. Пустынно и тихо, кругом безжизненная степь, накаленная за долгий день солнцем, как гигантская сковорода. Кажется, давным-давно мы были тут, мы, новички, сгибавшиеся от страха. На дороге рвались снаряды, и мы ничком лежали в стороне, не надеясь остаться в живых. А с каким ужасом я провожал батю Ефима, возвращающегося на страшную дорогу, не надеялся увидеть его в живых. Смешон теперь детский перепуг. И рваные воронки у дороги сейчас ничуть не портят дремотной картины.
Мое чутье меня не обмануло — порыв линии был здесь. На укатанной колее следы гусениц — прошел танк, зацепил кабель. Секундное дело стянуть концы кабеля, срастить их с перехлестом. Если дальше кабель в порядке, то связь уже есть, пушки могут стрелять. Но нужно перекопать дорогу, загнать кабель в землю, иначе он при любой оказии будет рваться, особенно ночью, когда тут наверняка начнется оживленное движение. Я вынимаю из чехла лопатку, опускаюсь на колени…
Дорога пристреляна. С какого-то далекого немецкого НП вооруженные биноклями и стереотрубами наблюдатели наверняка и сейчас следят за ней. Но я теперь достаточно прозорлив, чтоб страшиться. Навряд ли батареи откроют огонь по одному человеку, но даже если и откроют… Как только завоют снаряды, я перемахну в кювет, осколки в нем не достанут, а прямое попадание едва ли…
Земля дороги красна, как кирпич, как кирпич, тверда, врубаюсь в нее, выбиваю кусочек по кусочку, не поддается. А степь — пышущее пекло, и каска раскалена, и гимнастерка жестяно ломка от соли, я даже разучился потеть, вся влага из меня выжата. Хочу пить, давно изнемогаю. Котелок воды — мечта о невозможном. Бью, бью кирпичную землю, кирпичного цвета пятна плывут перед глазами… Вот оно, начало моих воинских подвигов!
За все время на фронте я ни разу не был в рукопашной, всего раз или два по случаю выстрелил в сторону противника, наверняка никого не убил, зато вырыл множество землянок и окопов, таскал пудовые катушки и еще более тяжелые упаковки питания радиостанции, прополз на животе несчитанные сотни километров под взрывами мин и снарядов, под пулеметным и автоматным огнем, изнывал от жары, коченел от холода, промокал до костей под осенними дождями, страдал от жажды и голода, не смыкал глаз по неделе, считал счастливым блаженством пятиминутный отдых в походе. Война для меня, маменькиного сынка, неусердного школьника, лоботряса и белоручки, была прежде всего тяжелый и рискованный труд, труд до изнеможения, труд рядом со смертью.
И никогда не ведал, что преподнесет мне новая минута…
Из дальнего угла безжалостно знойного, чистого неба поплыл размеренно качающийся звук. Я еще не успел обратить на него внимания, как бешено заквакали зенитки — ближе, ближе, все яростней, все осатанелей, пятная синеву быстро отцветающими одуванчиками. Сначала разглядел я лишь легкие прорези в небе, неровный пунктир, Он рос, ширился, призрачные прорези на небосводе становились материальными, обретали форму. Завороженный, я глядел и не смел шевельнуться. Качающийся моторный гул крепчал, в нем проступало утробно-басовитое, угрожающее. Самолеты двигались прямо на меня медлительно, уверенно, упрямо, не обращая внимания на одуванчиковую метель вокруг… Прямо на меня! Ошибки быть не могло. И уже различались линейные кресты на крыльях.
С усилием на секунду оторвался, оглянулся на залитый солнцем степной мир. Обреченный мир. Никого в нем нет. Никого, кроме меня!
Я сорвался с дороги, дальше, дальше в сторону, но некуда спрятаться плоская земля доверчиво распахнута враждебному небу. Но, кроме нее, родной земли, нет спасения, и я упал, однако краем глаза воровски выглядывал: не пройдут ли мимо, не пренебрегут ли мной, ничтожным? Нет, не блажь, не сон, прямо надо мной заваливался набок передний самолет, неестественно громадный, с отточенно серебряными на солнце крыльями. Он заваливался, и водопадно-гневный рев обрушился на меня. Я уткнулся лицом в душную колючую полынь…
А в ней, полыни, свой покойный травяной мир, своя потаенная жизнь — по сухой былинке мечтательно полз жучок, мелкий, но хвастливо-нарядный, позолоченно-черный.
Вверху же творилось невероятное — надсадный рев, истошное завывание, жуткий шабаш злых машин. Не вижу их, не хочу видеть, но не могу не слышать. Одна тень, другая скользнули по мне. Надо мной! Над моею открытой спиной! Велико мое тело, и земля не пускает его в себя. Ползет перед глазами жучок, позолоченный монашек, никуда не торопится, ему нет дела до шабаша в небе. Он мал! Он скрыт! Не собирается гибнуть вместе со мной…
Вот в рыке и вое проступил невнятный слабенький свист. Она! Сброшена… Мой конец. Тонкий свист оборвется — меня не будет.
С грохотом колыхнулась земля и не успела встать на место, как новый сотрясающий грохот. Все кругом стало ломаться, раскалываться, биться в истерике, свет померк, а кусок степи, обнятый мною, корчился в конвульсии. На мгновение проскальзывало затишье, зыбкое, как солнечный зайчик. Оно не успевало родить надежды — снова вой, обвальный грохот, конвульсии земли. Еще, еще, еще!.. Хватит! Больше уже невозможно! Но еще, еще… Я ослеп, я оглох, я перестал себя чувствовать, смирился с концом.
Затишье, столь же неверное, как и прежде. Грохот, не столь давящий, удаленный. И пауза. Она тянется и тянется. Лишь перекатное урчание моторов да щемящий звон в ушах. Кусок обнятой мной степи снова стал земной твердью. А в потаенном травяном мире недоуменно застыл на полпути знакомый позолоченный жучок, вслушивается, поводит усиками. Он явно жив… Похоже, и я…
Долго лежу в изнеможении, отдыхаю в заповедном мирке, успеваю даже проводить золоченого монашка до вершины былинки, тихо порадоваться его победе. Наконец набираюсь сил, приподымаюсь на подламывающихся руках…