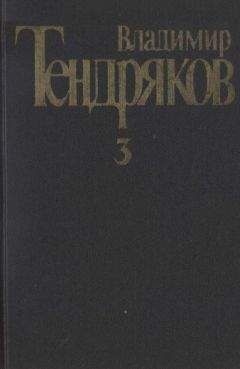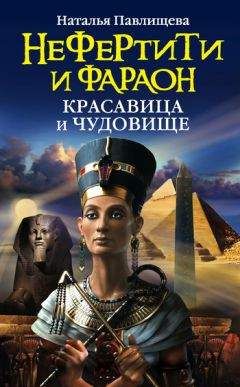Наконец заговорил:
— Знаешь, когда я уходил в армию, вдруг вспомнил о моем дяде…
Я сержусь, какое мне дело до его дяди.
— Только не крути, Чулик. Отвечай прямо: да или нет?
— Обожди, не сразу… Мой дядя — инженер-строитель. Очень даже крупный. Только… Как бы тебе сказать, в последнее время его от всего отстранили… А теперь вот стал нужен…
— Ну и что? Я же о Смачкине тебя спрашиваю, не о дяде-строителе.
— А то сообрази — специалисты нужны. В разгар войны. Значит, срочно что-то широко строят. Не карамельные же фабрики, наверняка военные заводы, самолеты выпускать, танки…
— Ага! Прав все-таки Звонцов, не Смачкин!
— Смачкин тоже. Позовет меня — умру! Пойду, не отстану. Без жертв не обойтись. Надо же время, чтоб технику поднять, выпустить самолетов и танков больше, чем у противника. Ну, а пока придержи его с тем, что есть. И задержать надо у Дона, ни на шаг дальше. Велика страна, а отступать некуда.
— Как по-твоему, долго его держать придется?
— Не знаю. Может, год, а может, и два даже. Война быстро не кончится.
— Не доживем, — вздохнул я.
— Не доживем, — согласился он. — А хотелось бы…
Ездовые машут кнутами — марш, марш… Горький путь целинной степью, под злым солнцем, под враждебным небом. Кони с потемневшими крупами тянут пушки, теперь их только две, от батареи осталась половина.
Солнце давно уже перевалило за полдень — самое пекло. Но в душном, густо полынном воздухе что-то сдвинулось, просочилась невнятная свежесть, коснулась липкого лица. И солдаты поднимают головы, ловят смутную прохладу, жадно вглядываются в даль. Степь по-прежнему буро-ржавая, одуряюще слепящая, по-прежнему она источает из себя трепетно-жидкие волны воздуха, колеблющие горизонт, однако уже чувствуется живительная близость реки. Могучий Дон где-то тут, прячется в обширном степном теле. Кони зашагали бодрее.
Как легкий озноб перед приступом малярии, как ропот листвы перед бурей, возник знакомый до отвращения звук. Каждый ждал его, каждый надеялся судьба смилуется, авось не сбудется. Бредущие солдаты очнулись, зашевелились, затравленно стали оглядываться назад, в маревую воздушную толщу. Авось… Нет, не пригрезилось — размеренно качающийся звук моторов из блекло чистого неба. Перед самым Доном, вблизи от спасения!..
Мы тоскливо переглянулись с Чуликовым, его узкое лицо натянулось, отчетливо проступили кости скул. Переглянулись, ничего не сказали, отвернулись друг от друга.
А кони шагали, и ездовые, напряженно торча на их спинах, махали кнутами — марш, марш! И, обреченно сутулясь, продолжали идти люди. Звук же креп, уплотнялся, не утрачивая своего размеренного качания.
Самолеты двигались боевым порядком — три звена косяком, по три машины в каждом — на умеренной высоте. От нас они были чуть в стороне, и мы, не переставая идти, лишь недружелюбно косились в их сторону. А под ними на земле возникла вялая суета — цепочки солдат рассыпались, залегли, скрывались, но не от тех, кто проглядывал степь с воздуха.
Самолеты презрели земную суету, проследовали дальше, унося с собой колеблющийся хвост звука…
Звук еще не совсем развеялся, еще что-то от него призрачно витало в небесах, как в отдалении, приглушенно и вязко, заголосила сирена, подхватилась другая. Над кромкой степи мошкариная толчея. И тупой удар, второй, третий, нутряное рычание, снова, снова долбящий удар за ударом…
Из степной выжженной закраины, из недр земли начал нехотя подыматься на дыбы темный зверь. Он рос, тучнел на глазах, с ленцой расправлялся и наконец застыл в угрожающей неподвижности.
Мы шли прямо на этого тяжелого дымного зверя. К нему тянулись рассеянные по степи кучки отступающих солдат, к нему мчались, тряслись повозки. Так властно тянет к себе ночной костер рассеянных мотыльков.
До сих пор все мы стремились к Дону бездумно — скорей бы, скорей, превозмогая усталость! Берег Дона — спасение, у берега широкая вода, можно спрятаться за ней. Никто, похоже, заранее не задумывался, что нам нужен не просто Дон, не его бесконечный берег, а лишь одно-единственное место на нем. Одно на всех — переправа.
Над переправой вздыбился черный зверь.
Мы идем прямо на зверя. Он медленно, медленно заваливается на сторону, растекается.
Переправа горит. Идем к ней, иного пути у нас нет, свернуть некуда…
2
Там, где ровная степь круто обрывается к реке, тесно сбилось беспорядочное машинное стадо — грузовики, фургоны, бензовозы, гусеничные трактора с тупорылыми гаубицами на прицепе и пара приземистых танкеток, и затертый в середине, недоуменно торчащий над всеми вооруженными башенками пыльно-громоздкий «КВ», и стиснутые подводы. Мы с двумя длинноствольными пушками на конной тяге на самых задах разгоряченного табора.
Над табором качается стена копотного дыма, поднебесно величавая, как Вавилонская башня. Она то закрывает солнце, заставляет его натужно багроветь, то освобождает, возвращая ему раскаленную косматость.
Между машинами, в тесном хаосе пышущего жаром металла беготня — затянутые в портупеи командиры, танкисты в промасленных комбинезонах и теплых шлемах, солдаты разных возрастов, разного обличья, одни налегке, в растерзанных гимнастерках, другие захомутаны шинельными скатками, втесался даже бестолковый пэтээровец с длинным, мешающим всем противотанковым ружьем на плече. У всех воспаленно красные физиономии и одинаковое выражение — скорей! скорей! Куда скорей? Это никому не ведомо — куда бы ни было, но скорей! Мечутся, сталкиваются, не задерживаясь, поспешно отскакивают, не замечают друг друга, без крика, без брани, молчком.
Стремительная затравленность сразу же проступила на обгорелом лице страстотерпца Смачкина, однако сам он в метания пока не ринулся, стоял с автоматом навытяжку, смотрел на суматоху стылыми белыми глазами. Не ринулся, но вот-вот…
Звонцов спокоен, оттянутый пистолетом ремень скашивает на сторону навешенный животик, большие пальцы рук запущены за ремень, короткие ноги в покоробленных кирзовых сапогах широко расставлены, щеки отвисли, глаза запали, однако усталости не показывает, придирчиво, не спеша озирается. За его спиной сгрудились огневики, угрюмо-черные, выжидающие.
— Лейтенант Смачкин, — тихим, будничным тенорком, но с приказной интонацией, — срочно разведать наших, кто уже здесь. Сразу же соединиться. А я прогуляюсь. Уточню обстановку.
Смачкин приободрился, кинул руку к пилотке.
— Есть!
— И, пожалуйста, не нахлестывайте себя. Без галопчика, Смачкин, без галопчика.
— Есть без галопчика, товарищ старший лейтенант! Чуликов, со мной!
Мне немного обидно — Смачкин позвал только Чуликова, меня забыл. Но утешение пришло тут же.
— Расчетам стоять у пушек, не отходить ни на шаг. Ездовых отрядить за водой — самим напиться и напоить коней. А вы, голубчик сержант, будете при мне. Пилотку поправьте, гимнастерку заправьте и карабин на плече держите с достоинством, чтоб видели — блюдем и помним себя… Вот так-то! Пошли к печке поближе.
Горели на пробитом в гребне берега спуске сцепившиеся автомашины. От них остались лишь черные остовы, но снизу продолжали хлестать закрученные языки пламени, даже глинистая земля вокруг полыхала. Должно быть, под кучей малой металлических скелетов находилась автоцистерна с какой-то маслянистой жидкостью. Оттого-то над плещущими языками пламени, казалось, прямо из воздуха рождался дегтярно-густой, курчаво-обильный дым. Он, бунтуя, вздымался и отравлял подбережный воздух угарной химической вонью.
Пожарище загораживало путь к реке. Но если б оно даже и не загораживало, то навряд ли кто из машинного стада на краю степи мог протиснуться вниз. Приречная полоса, стиснутая водой и падающей кручей, была до отказа забита вправо-влево, пока хватал глаз. Кони, трактора, пушки, броневики, повозки, машины, машины и все захлестнуто густым человечьим потоком, нервно пульсирующим, кружащим, муравьино беснующимся, глухо гомонящим. И так уже невпроворот, а сверху по крутому склону сыплются и сыплются вырвавшиеся из степи пехотинцы. Лишь бы добраться до воды, а там будет видно, как дальше.
Река под нами величаво просторна и нежно-голуба до застенчивости. Ее лижет ветер, оставляет синие языки. То тут, то там средь возникающей ряби вспухают и опадают кипенные, зеленовато-белые столбы. Немцы обстреливают переправу. А она вот, на виду — волосяно-тонкая нить на раздольной воде, настолько призрачная, что вдали не просматривается, только чувствуется. К ней подвешен паромчик, то ли дремлет, то ли движется, не уловить куда. И до чего же он мал — накрой ладошкой. А тот берег маячит невнятной зеленью, надсадно вымечтанный и недоступный.
Нет, все-таки не дремлет паромчик, медленно — ох, медленно! — ползет оттуда сюда. Сколько же он черпнет из этой густо замешенной человеческой каши? Накрой ладошкой — совсем ничего, за год не вычерпает.