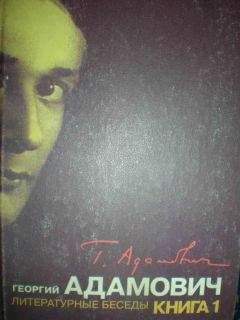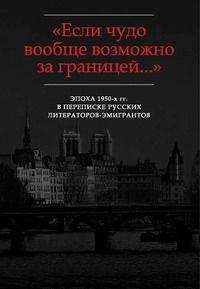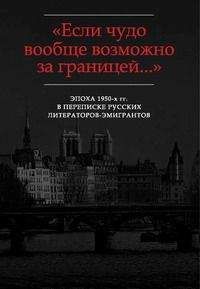Я стал учителем в школе второй ступени, а из предметов выбрал словесность. Мне показалось, что это интереснее всего, особенно если отказаться от «рутины». Но вскоре мне пришлось разочароваться – уроки оказались для меня тяжелым испытанием. По всей вероятности, я был плохим педагогом: никакой системы, никакого опыта, сплошное «кустарничество». Но все-таки не в этом дело. Для меня стало ясно, что есть какой-то коренной порок в самой постановке занятий литературой.
Помню уроки о Пушкине: я читал в классе его стихи. «Безумных лет…», «Анчар»… Никакого отклика, никакого отзвука, полнейшая и абсолютная невозможность убедить, что это «прекрасно». Глухая стена. Мои ученики повторяли, конечно, что это прекрасно, бормотали что-то о совершенстве формы и прелести чувства, но решительно как попугаи. Должен сказать, что в общем это были неглупые, живые подростки, некоторые даже очень даровитые. И не совсем «темные», попадались и деревенские, но большинство было городское из мелкокупеческих и мелкочиновничьих семей… Помню еще с большей горечью уроки о Гоголе, о Тургеневе: четыре часа на «Мертвые души», час на «Ревизора», час на «Записки охотника» – и так далее. При задании пройти «весь девятнадцатый век» в одну зиму никак нельзя было уделять каждому отдельному писателю больше времени,
если бы и удвоить его, ничего не изменилось бы: прочесть «Мертвые души» в классе все равно оказалось бы невозможным, и получилось бы лишь вдвое больше пустых, как бы повисающих в воздухе разглагольствований о них. Предполагалось, что ученики дома читают то, о чем им рассказывается в школе, но только «предполагалось»… Это было восемь лет тому назад, в советской России. И тогда я думал то же, что вспомнил совсем недавно здесь, в беседе с гимназистом.
К чему ведут, что дают уроки литературы? Если они и приносят пользу, то, несомненно, вместе с ней приносят и огромный вред: это официальное поощрение верхоглядства, внушение какого-то бессмысленного, поверхностного всезнайства, приучение отделываться чужими мнениями, думать чужими мыслями. В школе, по любой педагогической теории, должны или сообщаться фактические сведения, полезные и нужные человеку, или же суждения, развивающие его ум и душу. Этому требованию удовлетворяют естественные науки, математика. Ему же удовлетворяет история. Не будем здесь вдаваться в «сущность истории», отметим лишь главное: исторический факт можно истолковать подробнее и лучше, чем это делается средними учителями, но его все-таки нельзя непосредственно познать. Метод отношения к предмету дается в школе правильный, единственно возможный по самой природе предмета. То же с математикой или физикой. Математика сообщает школьнику только некоторые выводы свои, опуская все то, чем она к этим выводам пришла, забывая все свои творческие колебания и движения. Но выводы математики – это все-таки она сама, т. е. самая сущность ее, которая всегда остается одинаковой. Совсем другое дело – литература. Факты, сообщаемые на уроках словесности, имеют значение единственно только во всем окружении мыслей, чувств, стремлений, мечтаний, идей, которые их создали, вне их не только ни на что не нужны, но просто превращаются в призраки. Первое основное существеннейшее требование литературы — читать все самому.
Пушкин важен для юного сознания не сам по себе, не потому, что он «гордость России» или гениальный стихотворец, а потому, что он может сделать это сознание, эту душу лучше, щедрее, сильнее, благороднее, порывистее. Если отнять у него это значение, лишить его этого влияния, не остается никаких причин изучать его на уроках.
«Пушкин» в педагогике и образовании не цель, конечно, а средство. Нет никакого основания тратить время на то, чтобы объяснять, почему Татьяна отказалась следовать за Онегиным, если это объяснение ничем человека не обогатит. Повторяю, не для салонного же тщеславия преподается литература, не для того, чтобы юноша мог «не ударить лицом в грязь» и знать имена и характеры литературных героев. Я уверен, что мои псковские ученики оттого зевали над пушкинскими стихами, что их сознание ничем не было подготовлено к впечатлению, и даже наоборот, было запутано, сбито с толку необходимостью восхищаться по заказу и находить красоты по указке. Пушкин написал «Безумных лет…» в минуты редчайшего душевного просветления, уже чуть-чуть старея, уже чуть-чуть слабея, и понять эти строки:
И, может быть, на мой закат печальный…
можно только хотя бы смутно поняв, что такое человеческая жизнь. На «очередном уроке», по требованию курса, между космографией и тригонометрией, заниматься ими, право, не стоит. Но стихи можно хоть прочесть, — хорошо и это. Хуже обстоит дело с большими вещами, которые разбираются и толкуются без знакомства с ними. Саводники и Сиповские для того и существуют, чтобы Тургенева и Гоголя школьники могли не читать. Мало сказать, что время тратится попусту – оно тратится на то, чтобы научить искусству срывать верхушки, и нередко случается, что человек во всю жизнь не раскрывает Гоголя, потому что он его «прошел» в гимназии. Да что говорить: тысячи доводов сами собой просятся в обвинительный акт против «уроков словесности». А русское гегельянство — в полчаса! А «переписка» Гоголя – так, между прочим, в десять минут, с объяснением, что Белинский все эти заблуждения опроверг – это основное, трагическое столкновение двух сторон русского духа, преподнесенное в упрощенном и обезвреженном виде. А на задворках литературы, мелким шрифтом, Боратынский, Тютчев и другие. Каждый из них требует долгих месяцев – или должен быть оставлен в покое.
И вот мне тогда, в советской России, пришло в голову: если школа воспитывает человека и все усилия ее к этому направлены, если она должна подготовлять к жизни, то не лучше ли на уроках литературы, вместо сумасшедшей скачки по книгам, умам и душам, остановиться на одной книге, одной душе, одном уме. Правда, сведений получится меньше, и может случиться, что юноша по выходе из школы не будет знать, был ли Чацкий индивидуалистом. Но большая ли это беда, большая ли, во всяком случае, беда, чем если он выйдет из школы, ничем не заразившись от тех идей и чувств, которые наспех разбирал. Ведь школа стремится сформировать человека, а не ходячую энциклопедию. Тогда в псковской глуши я читал по вечерам «Дон-Кихота», эту «величайшую книгу в мире», как утверждал Достоевский. И вот над «Дон-Кихотом» я часто думал: если бы моим ученикам каждый день на уроках словесности читать по главе этой «величайшей книги», медленно, с объяснениями, с остановками, с размышлениями вокруг да около; чтобы она вошла в них и чтобы хоть сколько-нибудь заразила их своею страстностью, своей несравненной «человечностью», грустно, любовно, – неужели это не было бы лучше. Ведь что же обольщаться — не половина, девять десятых из них никогда «Дон-Кихота» не прочтет. Я не настаиваю на выборе. Мое тогдашнее впечатление было случайным. Можно взять хотя бы того же Пушкина, или Толстого, или Гёте, или кого-нибудь другого, но этого уровня, этого порядка… Не страшно, если кое-что останется недоступно. Главное все-таки дойдет и добро принесет. Не страшно и если влияние окажется односторонним. Можно найти несколько авторов, изведавших «в пределах земных все земное», можно сопоставить двух противоположных, можно, наконец, в устных комментариях объяснить или пополнить недостающее. Каковы бы ни были минусы таких занятий литературой, все же занятия эти дали бы соприкосновение с подлинной ее стихией, и если литература вообще способна воздействовать на человека, она сделала бы свое дело и здесь. Количество полученных сведений было бы принесено в жертву качеству не напрасно.
Я не имею ни малейшей претензии считать, что открываю какую-то Америку в деле мне мало знакомом. Это было бы смешно. Вероятно, над этим же вопросом думали люди, которые им занимаются постоянно. С уверенностью я ничего не предлагаю, а передаю только свои ощущения и догадки. Может быть, тот выход из положения, который представился мне подходящим, никуда не годится и никуда не ведет. Но положение все-таки выхода требует, и найти его надо. Моя статья написана как бы в «дискуссионном порядке».
НАКИНУВ ПЛАЩ
(О стихах Дон-Аминадо)
Дон-Аминадо правильно назвал свою новую книгу «сборником лирической сатиры». Действительно, в каждом стихотворении он почти одновременно смеется и плачет.
Автор как будто дразнит читателя — и только тот рассмеется, — как он его оборвет; только размечтается, — как он его рассмешит. И читатель тем послушнее за ним следует, что Дон-Аминадо ему не свои, личные, редкие, единичные чувства навязывает, не пытается подчинить его себе, а смеется общим смехом и общей грустью грустит. На этом отчасти основана популярность его стихов — они по тону своему сразу доступны, в них не надо вчитываться, к ним не надо привыкать, и никакой, даже самый заурядный, самый средний человек не чувствует себя при чтении Дон-Аминадо глупцом и ничтожеством, как в общении с другими поэтами. За это читатель платит Дон-Аминадо любовью и благодарностью.