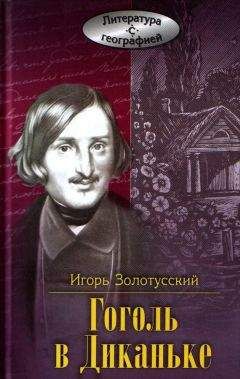Вопрос на лице мертвого прокурора, при жизни не задававшего никаких вопросов, уже есть его посмертная жизнь в поэме, и она-то дает повод для нового отступления автора, для очередной и, быть может, самой значительной паузы в ней, когда, остановив движение «сюжета», Гоголь прерывает повествование и обращается прямо к читателю.
«Но это, однако ж, несообразно! Это несогласно ни с чем! Это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях, или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово дурак (выделено Гоголем. — И.З.) и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему… Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил, как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону, дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями; но мимо его, в глухой темноте, текли люди. И сколько раз, уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями (огни миллиона. — И.З.), умели — так и добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: „Где выход, где дорога?“ Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки».
В поэме о плуте, о злоупотреблениях по службе, о взятках и скупке «мертвых душ» вдруг эта великая цель? Уже во «всемирную летопись» вписывается замысел Гоголя и его герои, которых читатель, поддавшись сарказму автора, склонен был считать ничтожнейшими из ничтожнейших. Как считал он до сей минуты ничтожнейшим прокурора, смертью своею давшего повод к этому рассуждению. Нет, не хочет вычеркивать Гоголь свое время и свой век из всемирной летописи, наоборот, он смело вписывает их на ее страницы. Он в ничтожно влачащейся жизни видит великое заблуждение. Вырисовывается в перспективе этого отступления вся даль гоголевского замысла и контуры уже обещанных им читателю последующих частей поэмы, которые должны вывести ее и героев на прямой путь, ибо лишь он и есть выход, есть восхождение к храмине.
Народу в поэме отдана роль зрителя, и лишь в списках мертвых он выступает как подлинный герой и подлинная Русь, к которой обращается в конце поэмы Гоголь. Мужик-зритель, мужик-резонер, мужик — автор комических реплик, иронизирующий над Чичиковым и его партнерами, оживает, и выясняется, что вовсе он не безразличен, не покорен и историческое безмолвствование его в поэме — молчание до поры до времени.
Почесыванье в затылке, которым то и дело занимается чичиковский Селифан, всегда означающее бог знает что, — таинственный жест. Селифан не торопится — это его Чичиков по гоняет, велит спешить, как подгоняет он и «разбойников» кузнецов, нарочно канителящихся полдня с его рессорою. Кузнецы-разбойники — кузнецы-хитрецы, они знают свое дело, но им охота поморочить барина да содрать с него подороже, их роль — ироническая, как и у Селифана. Да и разве хочется Селифану уезжать из города, где завелась у него, быть может, любовь и было «вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью, и плетет тихие речи разночинный, отработавшийся народ…».
Неожиданный лиризм, проглядывающий в этом куске о Селифане, кажущемся фигурой комической, забубенным пьяницею, как бы высветляет другим светом этого мужика, волею судеб оказавшегося кучером Чичикова. Нет, этих людей Гоголь не собирается «вычеркивать» из истории, как ни необъятна она, как ни величественны пишущиеся в ней «письмена», — тем более мы знаем его отношение ко всем этим Колокотрони и Наполеонам, да и сам Селифан дает нам лишний повод улыбнуться в их адрес: осерчав на своего пристяжного чубарого, он кричит ему в сердцах: «Бонапарт проклятый!» Бонапарт, запряженный в бричку Чичикова, да еще рядом с Заседателем (так зовут другого коня), — это смешно! Это насмешка и над Чичиковым — «переодетым Наполеоном», — и над императором французов, который, завоевав полмира, должен теперь в образе этого чубарого тащить «подлеца», а может быть, своего двойника — по крайней мере, очень похожего на него внешне.
Кажется, это Чичиков ищет свой миллион и свой «клочок» земли в Херсонской губернии, но это Гоголь плутает вместе с ним по дорогам России и по дорогам его души, которая и не подозревает, какой простор заключен в ней. «Какой же русский не любит быстрой езды!» — этот возглас Гоголя относится и к Чичикову. Ибо и Чичиков может чувствовать нечто «странное». И он искатель и путешественник, который не только версты глотает и ассигнации подсчитывает, но и способен на «отступления» и «паузы». Преодолевая огромные пространства России, Чичиков движется со своей бричкой как бы и в ином измерении, по дорогам непознанного в человеческой душе. Там нет верст и шлагбаумов, там все бесконечно и невидимо для равнодушных очей, и загадка бессмертия таится в этой дали. Недаром, задумываясь о душе Собакевича, спрашивает себя Чичиков: а ведь есть и у Собакевича душа. Только где она? Зарыта где-то глубоко, как у Кощея Бессмертного.
Тема смертности и смерти, тема «существенности», которая всегда смертна и конечна, пересекается здесь с темой бессмертия и неограниченности духовного простора, который становится полем действия поэмы Гоголя. Оттого в ней, как в «Страшной мести», далеко делается видно во все концы, но взор уже не упирается в стену Карпатских гор: горизонт ничем не ограничен, да и нет, собственно, горизонта, а есть ужас и восторг бесконечности, объемлющий автора и героя: «И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей…»
Нет, не только Чичиков, как и его автор, способны в поэме на поэтические вопросы. Их задает даже Собакевич — этот «медведь» и поедатель трехаршинных осетров, от которого до поэзии, кажется, как от земли до луны. «Хоть и жизнь моя? — говорит он. — Что за жизнь? Так как-то себе…» Более ничего не может он к этому добавить (кроме того, что живет пятый десяток лет и «ни разу не был болен»), но тоска слышится в его словах, хотя и комически звучит вопрос Собакевича и сам он, кажется, смеется над ним. Но у Гоголя всюду так — по форме смешно, а по существу — грустно. И почему-то грустно становится от этого признания Михаила Семеновича, и уже «другим светом» освещается его лицо.
Само движение Чичикова в поэме представляет загадку. Куда он торопится и зачем? За новыми мертвыми душами, за капиталом, за имением в Херсонской губернии, где ждет его идеал Выжигина, все это уже давно получившего? Нет, Чичиков в поэме едет куда-то не туда, он явно несется в своей тройке назад — не к будущему, а к прошедшему, к детству своему, к началу, описанием которого и заканчивается первый том «Мертвых душ». Странный круг описывает герой Гоголя. Начав с конца, он движется к своим истокам, как бы подбирая по дороге то, что растерял с юности. Тема возврата, возвращения и обретения молодости звучит в этом финале поэмы. И как грозное напоминание о необходимости этого движения перерезает на выезде из города дорогу Чичикову траурная процессия.
Смерть в своем реальном лике встает здесь на пути героя, чтоб напомнить ему о суде, о возмездии. Смерть до этого являлась на страницах «Мертвых душ» лишь метафорически, переносно — здесь гроб прокурора проезжает перед глазами Чичикова. Идея Страшного суда, так комически обыгранная в рассказах о слухах про похитителя губернаторской дочки, с этого момента начинает звучать серьезно. Страшный суд — это ответственность за те «кривые дороги» и «болотные огни», на которые не раз льстилось человечество (и польстился гоголевский герой), это идея возмездия, которое неминуемо для тех, кто предал «лучшие движения» своей души, отказался от них, попрал их. Расплата за них уже видится Гоголю в старости и угасании — предвестии физической смерти и факте смерти духовной.