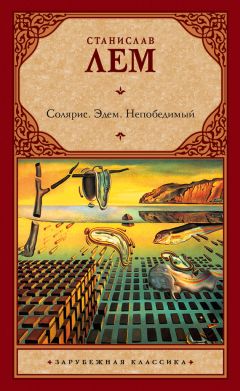III
Автор предварительно расправляется с сомнениями, возникающими при построении теории литературных жанров. Подшучивая над исследователем, который предварял бы генографию незаканчивающимся чтением трудов, он, ссылаясь на К. Поппера, заявляет, что для обобщения достаточно ознакомления с репрезентативными образцами изучаемого множества. Поппер, ложно призванный, ни в чем не виноват, ибо репрезентативность образцов в естествознании и в искусстве – две разные вещи. Любой нормальный тигр репрезентативен для этого вида кошачьих, но ничего, подобного «нормальному роману», не существует. Поскольку «нормализацию» тигров осуществляет естественный отбор, таксономист не должен (даже не может) оценивать этих кошачьих критически. Зато литературовед, также аксиологически нейтральный, – это слепец перед радугой, потому что не существуют организмы хорошие в отличие от плохих, зато существуют хорошие и плохие книги. Поэтому «выборка» Тодорова, представленная в его библиографии, поражает. Среди двадцати семи названий мы не находим Борхеса, Верна, Уэллса, ничего из современной фантастики, две новеллки представляют всю science fiction, зато имеем Э.Т.А. Гофмана, Потоцкого, Бальзака, По, Гоголя, Кафку – и это почти все. Есть еще два автора детективных романов.
Далее Тодоров заявляет, что вопрос эстетики он опускает полностью, ибо методов пока не существует. В-третьих, он рассуждает над соотношением Жанра и его Экземпляра. В природе, говорит он, возникновение мутанта не модифицирует вида: зная вид тигров, мы можем сделать выводы о свойствах каждого тигра. Обратное влияние мутантов на вид столь медленно, что им следует пренебречь. Иначе в искусстве: здесь каждое новое сочинение изменяет прежний жанр. Оно постольку является сочинением, поскольку отмежевалось от жанрово установленного образца. Сочинения, не выполняющие этого условия, принадлежат к популярно-массовой литературе – например, детективы, романчики, science fiction и т.п. Соглашаясь здесь с Тодоровым, я вижу, что ожидает его метод от подобного состояния дел: он будет раскрывать структуры тем легче, чем более второстепенные, парадигматически окаменевшие тексты возьмет для анализа. Такой вывод Тодоров (что неудивительно) не делает.
Далее он обдумывает вопрос, следует ли изучать жанры, возникшие исторически или; скорее, возможные теоретически. Вторые видятся мне тем же, чем история человечества априори, однако о том, что глупость легче кратко произнести, чем кратко опровергнуть, я умолчу. Зато здесь я помещу замечание о различиях между таксономией в природе и культуре, которых структурализм не замечает. Акты естественной классификации, например, насекомых или позвоночных, не вызывают никакой реакции со стороны классифицируемого. Можно сказать, что таксономии Линнея чужд эдипов комплекс (Эдип познал несчастья, потому что реагировал на предсказания своей судьбы). Зато акты литературоведческой классификации обратными связями соединены с классифицируемым, то есть в литературе эдипов комплекс проявляется. Понятно, что не напрямую. Писатели не бегут в кабинет после прочтения новой теории жанров, чтобы опровергнуть ее новыми книгами. Связь существует более косвенная. Окостенение межжанровых барьеров, или парадигматический склероз, вызывает у авторов реакцию, проявляющуюся, кстати, в скрещивании жанров и наступлении на традиционные нормы. Работа теоретиков является катализатором, ускоряющим этот процесс, потому что их обобщения облегчают писателям постижение целого пласта творческих работ со свойственными ему ограничениями. Так генолог, публикующий законченный список жанров, настраивает против него писателей, устанавливая актом классификации обратную связь: огласить такой список – то же, что составить саморазрушающийся прогноз. Ведь что более искушает на написание, чем теоретический запрет! Упомянутая связь на самом деле умаляет позицию теоретика, ибо сводит на нет захват боговедческой позиции над писательской толпой. Однако вместе с тем делает литературоведа соавтором созидательных мутаций – даже невольным, потому что это он поступает так и тогда, когда ему это вовсе не важно.
Сужение воображения, характерное для догматического склада ума, которое демонстрирует структуралист, проявляется в представлении, будто то, что он обозначил как барьеры, никто никогда не преодолеет. Быть может, существуют непреодолимые структуры воплощения, но до них структурализм не добрался. Зато то, что открывается нам как его границы, – достаточно старая мебель, или прокрустово ложе, как мы покажем.
Вникая в суть, Тодоров сначала разрушает предшествующие определения в области фантастики. Перечеркнув труд Нортропа Фрайя (защищать которого мы не думаем), через минуту он издевается над Роже Келлуа, который имел несчастье написать, что «пробным камнем фантастики является неустранимое ощущение странности» (l’pression d’еtrangetе irrеductible). Согласно Келлуа – глумится Тодоров – жанр произведения зависит от степени хладнокровия читателя; если он испугается, то мы имеем дело с (необыкновенной) фантастикой, если он сохраняет хладнокровие – придется произведение переклассифицировать в генологическом отношении. О том, как насмешник самоубийственно поставил тем самым под удар свою методику, мы расскажем в соответствующем месте.
Тодоров различает три аспекта произведения – вербальный, синтаксический и семантический, не скрывая, что раньше они назывались стилем, композицией и содержанием. Но их инварианты традиционно и ошибочно искали «на поверхности» текстов. Тодоров заявляет, что структуры он будет искать в глубине, как абстрактные связи. Н. Фрай – внушает Тодоров – мог бы сказать, что лес и море демонстрируют элементарную структуру. Это не так; эти два феномена конкретизируют абстрактную структуру с типом подобной связи между статикой и динамикой. Здесь впервые мы сталкиваемся с результатом ложной методической научности, этой достойной черты структурализма, потому что ясно видно, что ищет наш автор – противоположности, исключающие друг друга на высоком уровне отделения. Итак, пальцем в небо, поскольку статика является не противоположностью динамики, но ее особым, а именно пограничным случаем. Это мелкий вопрос, однако за ним стоит важная проблема, потому что так же конструирует Тодоров свою интегральную структуру фантастического писательства. Составляет ее, по заключению нашего структуралиста, ось с одним измерением, с локализованными на ней поджанрами, которые логически взаимоисключаются. Так представляется схема Тодорова:
Что такое «фантастичность»? Это – объясняет Тодоров – колебание существа, знающего только законы природы, перед лицом Сверхъестественного. По-другому: фантастичность текста порождает такое переходное и мимолетное состояние в процессе чтения, как неуверенность, относится ли сказанное к естественному или сверхъестественному порядку вещей.
Необыкновенное в чистом виде изумляет, поражает, будит страх, но не будит неуверенности (которую мы назвали бы онтологической). Тут место роману ужасов, показывающему ужасные события, необыкновенные, но рационально возможные; жанр отходит от схемы влево – теряясь в «обычной» литературе – как «переходное звено» наш теоретик называет Достоевского.
Необыкновенное фантастическое дает уже основание для сомнений, создающих впечатление фантастичности; это история вызвана, как думает сначала читатель, вторжением Сверхъестественного; однако эпилог приносит поразительное рациональное объяснение (сюда относится «Рукопись, найденная в Сарагосе» Потоцкого).
Чудесное фантастическое прямо наоборот – в финале предоставляет объяснения неземного, иррационального порядка, как «Вера» Вилье де Лиль-Адана, ибо финал рассказа заставляет нас признать, что покойница действительно воскресла.
И наконец, чудесное в чистом виде, которое опять не вызывает никаких колебаний между исключающимися типами онтичных миров, даже имеет четыре периферии:
a) «гиперболическое чудесное» – идущее из повествовательной элефантиазы: как в путешествии Синдбада, когда он говорит о змеях, способных глотать слонов;
b) «экзотическое чудесное» – и здесь Тодорову подходит Синдбад, когда говорит, что у птицы Рок были ноги как дубы: это не зоологический абсурд, потому что давним (исторически) читателям такая птичья форма могла показаться «возможной»;
с) «инструментальное чудесное» – инструментами являются сказочные объекты, например, лампа или кольцо Алладина;
d) наконец, четвертый тип представляет «научно-чудесное» – то есть science fiction. «Это – говорит Тодоров – романы, исходящие из иррациональных предпосылок, которые, однако, выстраивают повествование в логически правильную цепь». Или «Сверхъестественное подлежит рациональному объяснению, но согласно законам, которых современная наука не признает». И, наконец: «Исходные данные являются сверхестественными: роботы, инопланетные существа, межпланетный фон».