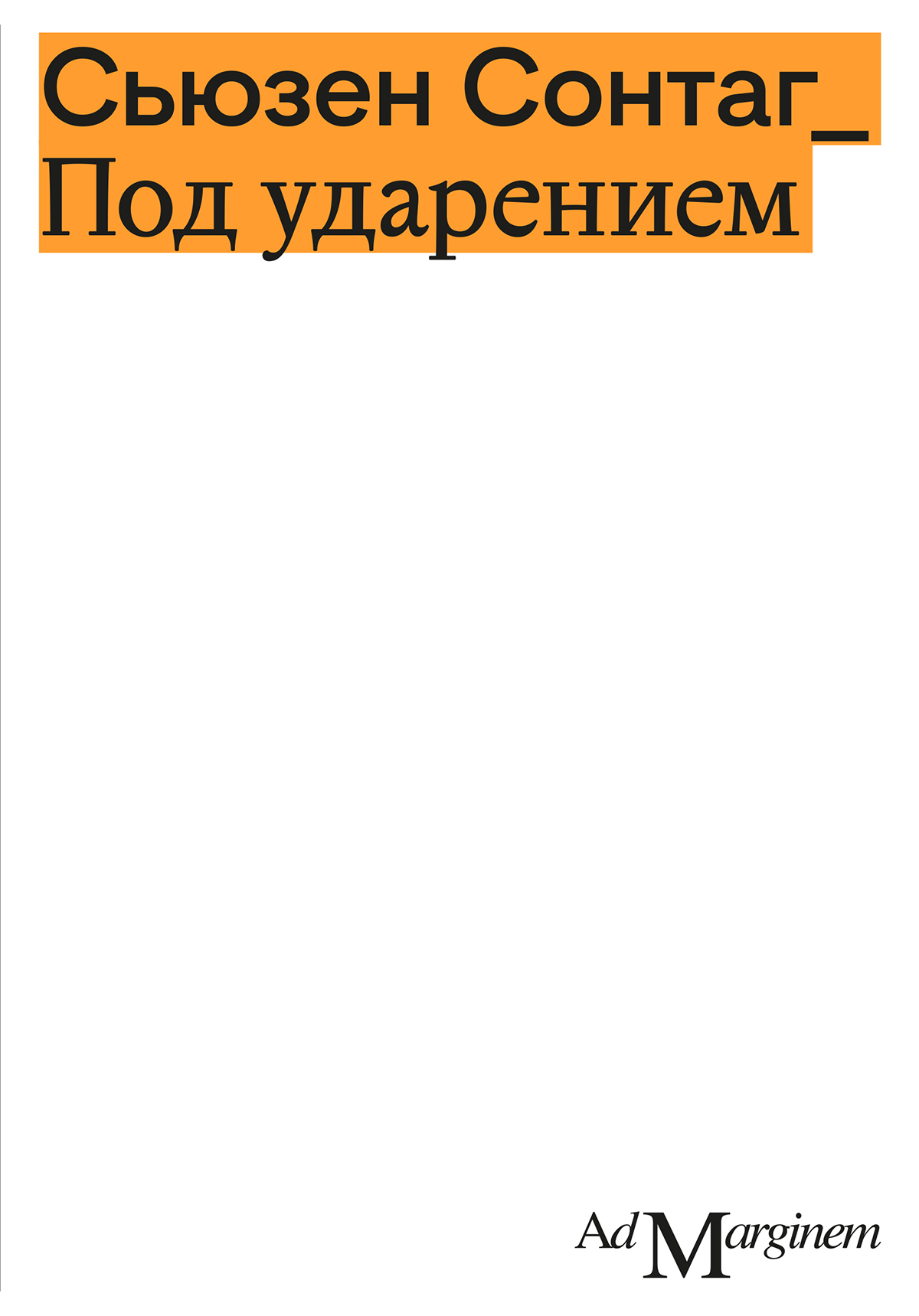какую плодородную почву для тоталитарного мифотворчества создало возвышенное искусство прошлого, в частности искусство немецкого романтизма, с подозрением относятся к излишне романтичному или ностальгическому восприятию прошлого. Пожалуй, только немецкий автор, постоянно проживающий за границей, в пространстве литературы, в настоящее время противящейся возвышенному, мог позволить себе столь убедительный и благородный тон.
Даже если оставить в стороне моральную горячность и дар сострадания (здесь Зебальд расходится с Бернхардом), проза Зебальда пребывает живой и никогда не ограничивается риторикой, в том числе благодаря желанию всё назвать, сделать видимым, а также удивительной способности вводить в повествование картинки. Билеты на поезд или листок из дневника, рисунки, телефонная карточка, газетные вырезки, фрагмент картины и, конечно, фотографии обладают очарованием и – часто – несовершенством всякой реликвии. Так, в Чувстве головокружения повествователь теряет паспорт; точнее, паспорт теряет служащий гостиницы. Перед нами документ, выданный полицией Ривы, причем «Г.» в имени В.Г. Зебальд таинственным образом замазана. А вот и новый паспорт с фотографией, выданный немецким консульством в Милане. (Да, наш профессиональный иностранец путешествует с немецким паспортом – по крайней мере, так обстояло дело до 1987 года.) В Изгнанниках эти зримые документы кажутся талисманами. Похоже, не все они подлинны. В Кольцах Сатурна они просто иллюстрируют сказанное, и это менее интересно. Если повествователь говорит о Суинберне – в центре страницы предстает уменьшенный портрет Суинберна. Если он вспоминает о посещении кладбища в Суффолке, где его внимание привлекло надгробие женщины, почившей в 1799 году, и в подробностях его описывает, от неприятно восторженной эпитафии до отверстий, проделанных с четырех сторон в камне, мы, опять же в середине страницы, видим размытую фотографию надгробия.
В Чувстве головокружения документы обладают другим, пронзительным смыслом. Они будто говорят: «Я рассказал вам чистую правду». Читатель художественной литературы нечасто предъявляет книге подобные требования. Зримое свидетельство придает описанию таинственный избыточный пафос. Фотографии и другие воспроизведенные реликвии становятся изысканным указателем в безвозвратном прошлом.
Иногда они выглядят как закорючки в Тристраме Шенди – автору хочется видеть в нас посвященных. А в других случаях эти настойчивые реликвии кажутся дерзким вызовом самодостаточности слов. Всё же, рассказывая в Кольцах Сатурна о своей любимой Морской читальне в Саутуолде, где он часами сидел над записями в вахтенном журнале патрульного судна, снявшегося с якоря осенью 1914 года, Зебальд пишет: «…всякий раз, как я расшифровывал одну из этих записей, мне казалось, что след, давным-давно исчезнувший в воздухе или на воде, вдруг проступал на странице». И тогда, продолжает Зебальд, закрыв крапчатую как мрамор обложку вахтенного журнала, он вновь задумывался «о таинственной силе писаного слова».
2000
Другая красота – мудрая, радужная книга польского писателя Адама Загаевского – простирает крылья над множеством жанров: воспоминания о взрослении, повседневные заметки, афористичные размышления, виньетки, апология поэзии – то есть защита идеи литературного величия.
Конечно, назвать Загаевского писателем – не совсем верно: поэт, который пишет неизбежную прозу, не утрачивает прав на более высокое звание. Проза – это дело многословное, в частности, проза Загаевского заполняет гораздо больше страниц, чем его стихи. Но в канонической двухпартийной системе литературы поэзия всегда попирает прозу. Поэзия олицетворяет литературу в ее самой серьезной, самой насыщенной, самой желанной ипостаси. «Автор и читатель всегда мечтают о великом стихотворении, о его создании, прочтении, проживании». Жить стихами: возвыситься поэзией, погрузиться в ее глубины, быть ею – на мгновение – спасенным.
От великого польского писателя мы ожидаем славянской насыщенности. (В рассматриваемом случае – с польским своеобразием.) Литература как пища для души была славянской специальностью на протяжении последних полутора веков. Вряд ли удивительно, что Загаевский, при всём спокойствии и деликатности его поэтического голоса, придерживается взглядов на поэзию, которые ближе к Шелли, чем к Эшбери. Так случилось, что перспектива выхода за пределы обычного состояния сознания внушает еще меньше доверия молодым польским поэтам, чем пишущим на английском языке. А перенесенная в иную область религиозная тоска Загаевского – жить через поэзию, на «высшей плоскости» – никогда не озвучивается без ноты мягкого самоуничижения. Недавний сборник стихов называется, с очаровательной трезвостью, Мистицизм для начинающих. Мир (лирического чувства, экстатической самоуглубленности), к которому поэзия дарует ключи поэтам и их читателям, – это мир, в котором несовершенная человеческая природа позволяет нам жить лишь мимолетно. Стихи «не живут долго», с оттенком сухой иронии отмечает Загаевский, «и тем более частые сегодня короткие лирические стихотворения». Всё, что они могут предложить, – это «мгновение интенсивного опыта». Проза кажется более устойчивой, хотя бы потому что через нее дольше продираться.
Другая красота – третья книга прозы Загаевского, вышедшая на английском языке. Два первых сборника составлены из фрагментов эссеистики и мемуаров. Новая книга представляет собой поток необозначенных (и непронумерованных) коротких и относительно пространных пассажей. Соединение рассказов, наблюдений, портретов, размышлений, воспоминаний сообщает Другой красоте переменчивость настроения и темпераментность, которую мы в большей степени склонны связывать со сборником стихов (так или иначе, с лирическими стихотворениями), отмеченным прерывистой интенсивностью в передаче чувства.
О какой насыщенности речь? (То есть о какой прозе?) Вдумчивой, точной; рапсодической; горестной; вежливой; склонной удивляться. Тогда и сейчас, здесь и там – книга мерцает, вибрирует контрастами. (Так или эдак. Мы ожидали одно, но получили другое.) Всё напоминает о несходстве, изменчивости вкусов, послании, метафоре. Даже погода:
Метеорологическим депрессиям Парижа присущ океанический дух; Атлантика направляет их вглубь континента. Дуют ветры, темные тучи мчатся над городом, как гоночные авто. Зло бьет косой дождь. Иногда проглядывает небо, лоскут синего. Потом снова темно, Сена становится черной мостовой. Низменности Парижа бурлят океанической энергией, раскаты грома – как хлопки пробок от шампанского. Тем временем типичная центрально-европейская депрессия – с центром где-то над Карпатами – ведет себя совершенно иначе: она смиренна и меланхолична, можно сказать, настроена философски. Облака едва движутся. Они имеют другую форму; они как огромный пузырь, опускающийся над центральным рынком Кракова. Свет постепенно смещается; фиолетовое свечение замирает, уступая место желтым бликам. Солнце печалится где-то за шелковыми облаками, освещая разнообразнейшие слои земли и неба. Некоторые из облаков напоминают поднявшихся на поверхность глубоководных рыб – они плывут с широко открытыми ртами, словно дивясь вкусу воздуха. Такого рода погода может длиться несколько дней, это кроткий климат Центральной Европы. И если после длительных размышлений гроза действительно ударит, она словно гремит с запинкой. Вместо резкого решающего выстрела звучит протяжная очередь, па па па па – эхо вместо взрыва. Громы с отсрочкой.
В представлении Загаевского природа остроумно погружена в пафос национальной истории – когда переменчивая, дерзкая погода Парижа празднует безграничную удачливость Франции, а «усталая», меланхоличная погода Кракова подытоживает неисчислимые поражения и другие беды