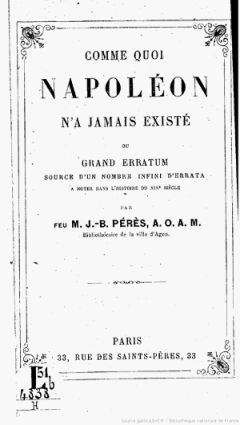И действительно, не было, казалось, предела их счастью: он был неутомим, она, с своей стороны, понимала это. Бывало, сбирается он утром на службу, она к нему: «Возьми меня, друг мой, с собой в департамент»; воротится со службы, сядет за дела, и она против него сядет, ничего не делает, только в глаза ему глядит; станет заказывать повару обед: «Сделай ты мне, братец, щи с кашей, поросенка под хреном и жареного гуся с капустой», она сейчас: «А я, душенька, хотела тебя просить заказать молочную лапшу, шпинату немного и миндального пирожного» — нечего делать, хоть поморщится, но закажет, что ей хочется. Очень, очень приятно было на них смотреть.
Только на днях приезжаю я в Петербург (это было через два года после женитьбы моего приятеля) и, разумеется, сейчас к моим счастливцам.
— Ну что, в каком положении райские селения? — спрашиваю я его. Вижу: он смотрит как-то угрюмо.
— Никаких тут райских селений нет! — говорит.
— Может ли быть?
— Помилуй, любезный друг! я уж целый год только об том и думаю, как бы нам разойтись прилично.
— Да что же такое?
— Да просто покоя ни на минуту нет; не могу ни работать, ни есть, ни пить… все мои привычки нарушены!
— А ты уступи, мой друг!
— В чем тут уступать? Ведь ни в чем, ни в чем, как есть, никакого согласия ни в мыслях, ни во вкусах нет!
— Но ведь ты понимаешь, что такое семейный союз! ты понимаешь всю важность этого слова!
— Знаю и понимаю… но ведь я спать хочу! понимаешь ли ты это: я спать хочу!
— Вспомни Неволина, друг мой!
— О, черт возьми! да разве я что-нибудь против этого говорю! разве я не знаю, что жизнь есть долг! Но ведь это долг обоюдный, это, так сказать, всеобщая игра обязанностей, а не исключительное бремя, взваленное на плечи одного!
— Ты бы ей объяснил это, друг мой!
— Объяснял, не один раз объяснял! Да только одного и добился от нее: «Стану я… скука какая!»
— А ведь как между тем это понятно, мой друг!
— Еще бы! величественное здание, — и больше ничего!
— Нет, да ты пойми, как это хорошо! я исполняю свой долг, ты исполняешь свой, она свой… ведь если все-то! если все-то! ведь это почти что как будто бы мы делали то, что нам приятно!
— Еще бы! Если мы все делаем, что нам не хочется, то это совершенно точно то же, как бы мы делали то, что нам хочется. Минус на минус дает плюс — это истина математическая,
— Так почему же ты не хочешь себя принудить?
— А почему же она себя не принуждает?
— Однако же пойми, мой друг, что в мире встречаются разных сортов люди: одни исполняющие свой долг, другие не исполняющие, первые называются добродетельными, вторые — порочными…
— Все это я понимаю.
— И что дурной пример, подаваемый нам другими, ни в каком случае не может служить для нас оправданием…
— И это я понимаю.
— И что ж?
— Но я понимаю также, что исполнение обязанностей тогда только может быть легко и удобно, когда существует, так сказать, всеобщая игра обязанностей…
— Ты говоришь: легко и удобно, но разве таковы условия того, что мы разумеем под словом «обязанности»?
Приятель мой молчал.
— Разве самая сущность этого слова не указывает тебе, что как скоро что-нибудь достигается легко и удобно, то оно вместе с тем уже перестает быть обязанностью?
Приятель мой, казалось, желал меня съесть.
— Вспомни Неволина, друг мой! вспомни, что жизнь наша совсем не танцкласс, но горькое препровождение времени, что это, так сказать, временная тюрьма души…
— О, черт побери!
— Что мы только твердым перенесением испытаний (обязанностей то есть) достигаем…
Приятель пожал мне руку: он был видимо тронут. Я, с своей стороны, ушел от него с облегченным сердцем, потому что ведь и я, коли сказать по правде, исполнил свой долг, а когда я его исполняю, то всегда чувствую себя облегченным. Тем не менее справедливость требует сказать, что приятель мой через две недели все-таки не исполнил своего долга, то есть разошелся с женой окончательно.
Все это привело меня в совершенно мизантропическое состояние. Возвращаясь в Москву по железной дороге, я встретил в вагоне кавалера и даму, сидевших рядом; кавалер смотрел налево, дама взирала направо. И поверите ли, я так был расстроен, что уверил себя, что это непременно сидят муж и жена, не исполняющие взаимных обязанностей. В моей голове сложился за них даже целый мысленный разговор, ибо, вследствие нервического раздражения, я сделался почти ясновидящим.
«А я в Москве увижу мсьё Кормилицына!» — думала дама (она этого не думала, но я знаю наверное, что думала).
«А я в Москве увижу мадам Попандопуло!» — думал кавалер (и он тоже не думал, но думал).
И насилу-то мог я успокоиться в Москве чтением «Московских ведомостей».
Признаюсь, все это сильно меня озабочивает, ибо в этих фактах я вижу признаки крайнего упадка нравственности. Общество, лишенное нравственности (а что такое нравственность, как не беспрерывное служение долгу?), на что может быть годно? Оно годно единственно на то, чтобы распространять семена самой пагубной безнравственности. Определение это, конечно, похоже на каламбур, но ведь, в сущности, что же такое каламбур? В сущности, каламбур есть сама истина, но только оклеветанная. Если я скажу, например, что добродетельный человек всегда добр — по-видимому, это будет каламбур, но на самом деле, что же может быть святее этой истины? Вообще, истину я разумею так, что она определяется сама из себя: стоит только из существительного сделать прилагательное— вот и истина. Мерзец мерзок, скверней скверен, милка мил и т. д. и т. д.
Для разъяснения своих сомнении я обращался к самым, что называется, присяжным людям безнравственности, к тем, для которых сказать, что долг — пустяки, что нравственность— химера, точно так же легко, как мне плюнуть и растереть. И что же, вы думаете, они ответили мне на это! А просто ответили, что есть у всякого человека свое дело, которое может быть привлекательным или непривлекательным. По их понятиям, если общество находится в нормальном положении, то никакое дело не может быть непривлекательным, ибо нет того человека, который бы в данную минуту не был расположен к какому бы то ни было делу. Надобно, говорят они, только воспользоваться разнообразием человеческих способностей и склонностей и тем почти бесконечным дроблением, которому может подлежать человеческий труд.
На это я шепнул им на ухо такое занятие, одним названием которого надеялся привести их в смущение. К удивлению моему, они, однако ж, не смутились и отвечали: во-первых, что на мой аргумент, как на глупый, не следует и внимание обращать; во-вторых, что исключение, если б это и было исключение, не может быть признано за общее правило; в-третьих, что потребность в подобных занятиях, с введением различных технических усовершенствований, с каждым днем делается все меньшею и меньшею, и в-четвертых, наконец, что если мы будем глубже вникать в существо человеческих способностей, то, конечно, и для этого рода занятий найдем деятелей.
Да, «деятелен»; так и сказали: «деятелей». Да еще прибавили: «Ведь находятся же люди, способные исполнять должность публицистов, — ну, вот эти люди и займутся тем делом». Ну, скажите на милость!
Нет надобности, я полагаю, говорить, что все это не что иное, как пошлое остроумие, на которое и отвечать не стоит. Ибо не безызвестно всем и каждому, что есть, именно есть в природе такие занятия, которых никто, даже публицисты исполнять не согласятся. Поэтому-то занятия сии производятся исключительно ночью, поэтому-то люди, предающиеся им, называются людьми худородными. А по-вашему, как? Не считать ли уж их героями? Не венчать ли лаврами? Тьфу!
Желал бы я знать, каким образом они объяснят отношения Марьи Петровны Воловитиновой к ее детям? Знаю. Они скажут, что если Сенечке приятнее быть с своими начальниками, нежели с матерью, то пусть и будет он с своими начальниками; что если Марье Петровне нравится больше буян Феденька, то это значит, что между ними есть сходство характеров и что, стало быть, она совершенно в своем праве; что все взаимное недовольство, поселившееся в этом семействе, именно и происходит вследствие тех принудительных отношений, которые их связывают. Ну, а наследство-то как, милостивые государи! наследство-то? «А наследство», — скажут они…
Тьфу!
Знаю я также, что они и поступки Попкова-старшего с своей точки зрения найдут удовлетворительными, да и приятеля моего (того, который с женою разошелся), кстати, оправдают. «Все эти люди, — скажут они, — каждый сам по себе!» Сами по себе! а дети-то, милостивые государи! детей-то куда ж девать? «А детей», — скажут они…
Тьфу!
По этой ужасной теории, всякий человек живет не для исполнения своего долга, а для удовольствия; даже дети, малолетние дети составляют свое особое общество, как и взрослые, и родители не только не смеют их наказывать, но и советовать могут только умеренно, а отнюдь не надоедать… Да и кто эти дети? Кто эти родители? О, боже! отцы большею частью неизвестны!