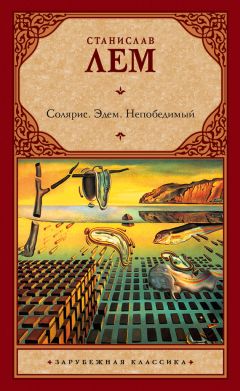Сложность, которую принес мне первоначальный замысел, заключалась в том, что он действительно давал возможность вызвать к жизни современного Фауста, но в виде тривиального романа об исполнении недоброжелательных желаний. Я напрасно пытался обогатить эту историю элементами из области политики и науки. Естественный ход событий всегда можно представить так, чтобы герой все больше верил в анонимную силу, которая ему служит, что ведет к эскалации требований, а в мире политики и науки это должно быстро привести его к отрезвлению. На определенное время можно с уверенностью допустить такую игру совпадений между желаниями господина Ф. и событиями большой политики (господин Ф. желает устранить некоего политика из высоких сфер, и действительно этот человек случайно погибает или отправляется в отставку; господин Ф. – француз, ожидает падения правительства, а дело разыгрывается в 1939 году, разразилась война, правительство пало) – однако речь не об этом! Господин Ф. должен быть законченным ослом, чтобы поверить, что фирма по его просьбе довела дело до войны. А также осуществление по его просьбе убийства или политического путча имело бы сомнительную достоверность.
Эта история имеет тенденцию отклонения в сторону сенсации или фантазии. Или исполняются мелкие желания господина Ф., которые, однако, не выходят за рамки его жизненных проблем – тогда, однако, все остается неясным. Или господин Ф. желает, чтобы произошли события, которые – если будут исполнены – разрушат реализм повествования (если не исполнятся, история немедленно утратит напряженность). Реалистическая повесть может представить карьеру какой-нибудь вымышленной звезды или миллиардера, но не вымышленный всемирный кризис или революцию в Америке, потому что реалистическая повесть должна иметь подтверждение в независимой от повести хронике исторических событий. Если бы господину Ф. пришла в голову мысль «исправить мир», фантастические события немедленно столкнули бы повесть с реалистической основы в гротеск или в чудо. Однако реализм был для меня conditio sine qua non[570] этой повести, потому что Фауст, история которого развивается в какой-то выдуманной исторической эпохе, перестает быть Фаустом наших дней. Фауст – это драма ненасытного духа, который стремится к недостижимому небу и приземляется в аду. Современный Фауст не может быть эротоманом, филистером, политиканом или наемным убийцей. В качестве Гретхен я выбрал уже умершую красотку, потому что господин Ф. должен добиваться чего-то невозможного – для нашего непрерывно текущего времени. Однако этот вариант, именно по причине его тривиальности, я отбросил, потому что он опирается на безвкусную плоскость натуралистического романотворчества. Возможности Фауста растут неожиданным и внезапным образом. Это внезапный «прилив сил» частично может быть иллюзорным, но, однако, это единственный фактор, который влияет на него извне, потому что все, к чему он стремится, должно быть его собственной выдумкой. Он по-прежнему остается незаметным, но из этого возникает каталог скрываемых до сих пор прихотей, то есть карикатура проблемы – а не проблема в своем действительном размере. Именно по этой причине невозможно силовое вторжение мифической схемы в пределы повести – эта схема должна достоверно вписываться в «саму жизнь».
Где в связи с этим следует искать сегодняшнего Фауста? Давайте присмотримся к сегодняшнему миру. Погоня за производством и потреблением уже не кажется настолько существенной в том смысле, чтобы – так было раньше – «как можно большее число людей осчастливить как можно большим количеством товаров». Дальнейший рост производства считается необходимым, однако в том смысле, в каком должно действовать «железное легкое» паралитика – это машина, которая уберегает от смерти, однако она не служит ничему, кроме сохранения жизни пациента.
Как дошло до этого изменения способа оценки ценностей? Чтобы это выяснить, следует принять во внимание всю историю человечества. В каждый исторический момент «sapientia[571] », которой располагает homo sapiens, двояка. Часть разума мобильна и невесома: она помещается в человеческих головах. Вторая ее часть «инвестирована в недвижимость» – ведь те же системы производства, коммуникации, города или машины есть не что иное, как воплощение вездесущего духа в материю. А потому разум здесь характеризуется инертностью в том смысле, в каком им обладает разъяренная толпа. Хотя все беспрестанно меняется, то, что является самым важным, не подлежит изменениям: направление. Из прошлого мы унаследовали многое от «цивилизации закостенелого разума» и часто не можем распорядиться этим наследием так, как того требуют новые потребности. Именно это я имею в виду, говоря об «инертности разума». Кроме того, похоже, что исторический баланс разума выглядит так, что его часть, отвечающая за инертность, увеличивается за счет «движимой части».
Эту зависимость мы увидим в новом свете, если подумаем, каким образом и почему в процессе естественной эволюции вообще возник разум. Изменения, заставляющие виды приспосабливаться к новым жизненным условиям, продолжались миллионы лет. Также миллионы лет нужны организмам, чтобы развились конечности, клювы или умение строить гнезда. Разум позволяет в миллиарды раз сократить необходимое время для адаптации. Следовательно, если приспосабливаемость видов в природе характеризуется инертностью, разум позволяет пережить эту инертность. Разумное существо сумеет создать приспособление, эквивалентное конечностям, клюву, построить гнездо, как только такая мысль родится в его голове. Следовательно, разум возник для того, чтобы сделать возможным молниеносное приспосабливание. Сегодня, однако, ему начинает становиться в тягость инертность его собственных результатов. Чем сильнее цивилизация, тем сильнее ее охватывает инертность. А чем сильнее инертность, тем медленнее она сумеет приспособиться к новым условиям. Слабость живого ума в сопоставлении с инертностью, унаследованной от цивилизации, вызывает всемирную неприспосабливаемость в форме политических, педагогических и общественных анахронизмов, интеллектуального разброда, что приводит к переизбытку информации, а также в форме деструктивных, нигилистических движений, чувства угрозы и беспомощности.
Картина разума, ограниченного результатами собственных дел, соответствует fatum[572] из греческой трагедии. Одновременно эту картину сопровождает определенная ирония судьбы, если учесть, что разум должен быть лекарством от самого большого порока эволюции: ее инертности. Инертности биологического наследия, которому для метаморфозы, необходимой для выживания видов, потребовались миллионы лет. Можно также сказать, что это ни fatum, ни ирония судьбы, но обыкновенное следствие равнодушия мира по отношению к человеку. Если никто сверху не запланировал эволюцию и возникновение человека, нет никакого рационального повода, чтобы один из продуктов этой же эволюции – в данном случае наш разум – на каком-то этапе своего существования не мог оказаться настолько ненадежным, чтобы создать угрозу самому себе.
Вышеприведенные размышления показывают, что в поисках современного Фауста нахождение золотой середины между психологией героя и мифологией ненасытного разума не является самым важным. Главной проблемой становится сведение ситуации всего человечества к ситуации личности. Здесь мы останавливаемся перед невыполнимой задачей. Намереваясь написать этого «Фауста», я был на прямом пути, чтобы повторить ошибку, в которой когда-то обвинил Томаса Манна[573]. Я тогда считал, что его Фауст не репрезентативен для судьбы Германии, потому что то, что искушало Леверкюна, – это не то, что увлекло Германию в нашем столетии. Фауст Манна – классическая трагедия личности, готовой заплатить любую цену ради творческой самореализации. Однако ни немцы не были таким Фаустом, ни Гитлер не был тем дьяволом, который нанес визит Леверкюну. Дьявол, который принял облик фашизма, был соблазнителем масс. И не случайно, что самый удачный портрет Гитлера вышел из-под пера Канетти[574], который был увлечен тем, что можно назвать человеческим «единством», а именно отказом личности от индивидуальности ради погружения себя в анонимную, плазмообразную массу.
Дьявол Манна не является олицетворением фашизма, потому что это разумное зло, которое выбирает разумные жертвы, чтобы искушать их аргументацией, которую нельзя отбросить категорически. Думаю, что не одна творческая личность, так же, как и Леверкюн, такой болезнью и таким концом была бы готова заплатить за создание шедевров – даже «холодных» и «декадентских». Я думаю также, что не все мотивы Леверкюна заслуживают осуждения.
Дьявол и искуситель Леверкюна требует соблюдения договора только после исполнения того, что обещано. Фашизм тем временем обманывал своих сторонников так же, как и противников, он отказывался от обещаний и побеждал людей не искушениями, которым разум может воспротивиться, а поступая как обманщик и преступник. Поэтому стыд масс, соблазненных фашизмом, – это не трагедия Фауста. Манн создал великолепный роман о близком конце определенной большой эпохи в культуре, о конце эпохи, которая жертвует этическими ценностями ради последнего отблеска оледеневшей эстетики – однако это не роман о падении Германии. Книга, дух которой – мифической, но уже не социологической природы, через свою торжественную символику заслоняет проблему, которая не касается ни исключительно фашизма, ни исключительно Германии. Эту серьезную проблему поднял Карл Поппер в своем труде «The Open Society and its Enemies»[575]. Фашизм представлял собой только попытку преобразования открытого общества в закрытое. Поэтому единственным современным Фаустом является коллективный Фауст – то есть человечество на распутье. Открытое общество оберегается от возможности ревизии ценностей, на которых до сих пор функционировало, – для цивилизации это означает возможность совершать спасательные маневры.