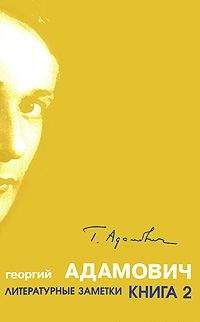Позволю себе короткое «pro domo sua», – позволю себе его лишь в уверенности, что эти мои ощущения многим знакомы: я очень люблю стихи… Вопреки распространенным сейчас мнениям, я продолжаю верить, что это высшая форма словесного творчества, поистине, «божественная», поистине, «вечная». Всякие соображения о «перерастании» поэзии жизнью представляются мне ребяческим вздором. Все можно сказать в стихах, – и как сказать! Тютчев, например… Разве тоненькая книжка его стихов не «стоит» всего Достоевского, – стоит не в том смысле, конечно, что он «выше» или «ниже» его, или сводит Достоевского «на ноль», а только в том, что она представляет собой нечто равноценное, настолько же глубокое, единственное и незабываемое. Конечно, Тютчев никогда не получит в Европе такого влияния и признания, как Достоевский, – но это ведь оттого, что он непереводим. Мы-то знаем цену ему. И знаем, чем он и как Россию обогатил. (Кстати, о Тютчеве и Достоевском. Не удавалось ли порой Тютчеву с чудесной прелестью, с чудесным лаконизмом создать как будто целую главу «психологического» романа, – в нескольких словах?.. Например, «Весь день она лежала в забытьи» или «Она сидела на полу»). А Бодлер! О нем тоже можно было бы сказать, что его «книжка небольшая томов премногих тяжелей». Не только «премногих», но и всего, вероятно, что во французской литературе за последние полвека появилось. Когда Гюго покровительственно сказал, что Бодлер создал «un nouveau frisson», он не предвидел, вероятно, что из этого «нового трепета» выйдет все позднейшее искусство. Но не будем говорить о Тютчеве и Бодлере. Если говорить коротко, поневоле придется ограничиться одними только восклицаниями. А раз увлечешься такой темой, – то никогда и не кончишь… Скажу только снова: я очень люблю стихи… Но, читая современные сборники их, я то и дело начинаю в своей любви сомневаться, и не раз ловлю себя на мысли: если мне над этой книжкой скучно, то не во мне ли самом вина? Сомнение рассеивается, как только вспоминаешь иные стихи – даже и не такого уровня и не такой силы, как те, которые я только что упомянул, а бледнее, скромнее. Но сейчас даже и так никто не пишет, никто не может писать. Одни, поумнее, дописывают; скупо и редко, – боясь всего похожего на красноречие и десятки раз проверяя, – взвешивая каждое слово и как бы обескровливая себя. Другие… но анекдот о Боборыкине я уже рассказал. Земля оскудела под стихами. Надо перейти на другую полосу, чтобы дать той набраться новых соков и сил, – да и для того тоже, чтобы самим на иссохшей почве не работать бесплодно.
В берлинском сборнике есть стихи, посвященные России. Они сами по себе не плохи… Но характерно, что мы к ним заранее, а priori относимся с недоверием, безошибочно предчувствуя какую-то пропасть между нашим теперешним «чувством России» и тем, что в стихах может быть передано. Я пишу «безошибочно» потому, что предчувствие, действительно, никогда не обманывает: в стихотворных мотивах о России, во всех обращениях к ней, или воспоминаниях, – фальшь и нестерпимая слащавость ощущаются неизменно. Мы инстинктивно знаем, что сейчас стихов о России не может быть. Но не это ли убедительнее всего свидетельствует о летаргическом сне, охватившем поэзию? Не в России же дело. Уж о чем бы, кажется, и «пропеть» современному поэту, как не о России, что, кроме нее и нашей памяти о ней, дало бы ему возможность «ударить по сердцам с неведомою силой»? Но нет слов и нет ритма. Нет стиля. Любители покушений с негодными средствами упражняются время от времени в своем любимом занятии, а другие молчат.
Выделю, все-таки, вне связи с общей темой этой статьи, из числа берлинских поэтов одного – Н. Белоцветова. В его стихах слышится музыка, отсутствующая у других авторов «Рощи», может быть, и более искусных. Со всеми оговорками, это, все-таки, какое-то дополнение и добавление к настоящей русской поэзии («вклад в сокровищницу», как принято выражаться, – хоть и крошечный вклад), а не просто строфы, в ней бесследно и бесцельно растворяющиеся.
Стихотворный отдел «Чисел» более полон, да и составлен более тщательно, чем в каком-либо другом журнале за время существования эмиграции. Приверженность к стихам отчасти дает «Числам» их своеобразный облик… Поэзию здесь не только допускают, как во всех или почти всех иных изданиях, – ее поощряют, ценят, насаждают. К ней в «Числах» крайне внимательны. Поэтому, особенно интересно прочесть стихи, помещенные в журнале: это не случайное собрание случайных авторов, а процеженный отбор их, без пристрастия к «именам».
Как ни интересно чтение, оно на радостные, оптимистические мысли тоже не настраивает.
Один старший «дореволюционный» поэт в новом номере «Чисел» – Н.Оцуп. Его шесть стихотворений были, кажется, сразу всеми признаны прекрасными, – и я это мнение вполне разделяю, особенно относительно последнего стихотворения. Но какие это «трудные» стихи! Как, по-видимому, мучительно было их возникновение! Вот уж где все обескровлено, вот где критическое ясновидение мастера все разъело, как серная кислота… Нечего продолжать, нечему радоваться: слишком много ясности. Все слова – будто последние, «поздне-римские», стерилизованные. Поэт доводит откровенность до того, что сознается, – у него одно только желание:
в кровать
И спать, и спать, подольше спать.
Ищут «новых путей» те, кто литературно моложе Оцупа: Бакунина с убедительностью скорее жизненной, нежели словесной, Поплавский, всегда талантливый, но слишком словоохотливый для того, чтобы дать своему таланту отстояться и окрепнуть, Холчев, не совсем отчетливо понимающий разницу между великим «народным» искусством и лубком, наконец, Червинская, остроумно перекладывающая в рифмованные строчки какие-то свои полусны, получувства, полудогадки.
Все это, повторяю, очень интересно (точнее, может быть, любопытно). «Числа» хорошо делают, что отстаивают поэзию от равнодушия или нападок. Хорошо вообще плыть «против течения», – а здесь, в прошлом, такие «вершины, такое сияние!»
Но есть, все-таки, разница между культом былого и творчеством. Невольно вспоминается: «предоставьте мертвым»… Только здесь, в области слова, отказ не так страшен, выбор не так резок: поэзия не умерла, она спит. Не нужно лишь тормошить ее во время отдыха – надо уметь ждать. Она проснется.
<«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» М.ГОРЬКОГО >
Странная судьба у нового, огромного романа Максима Горького — «Жизнь Клима Самгина». По единодушному признанию всех пишущих в советских газетах, начиная с Луначарского и кончая каким-нибудь «кружковцем-колхозником», — это одно из величайших произведений мировой литературы. Его долго сравнивали с «Войной и миром». Но этого показалось недостаточно: недавно «Жизнь Клима Самгина» назвали «нашей Илиадой»… Автор — новый Гомер — на вершине славы. Критики перед ним раболепствуют. Казалось бы, десятки и сотни статей о «Климе Самгине» должны заполнить московские журналы. Но, к явному смущению самих московских литераторов, статей нет почти совсем. Попадаются только восторженные восклицания и ахания с обещанием дать в ближайшее время разбор горьковского шедевра. Но обещания остаются обещаниями.
На одном из последних литературных совещаний в Москве было сделано предположение, что, очевидно, «Клим Самгин» нашим критикам «не по зубам». Слишком, мол, глубоко, слишком величественно и необыкновенно. Критики нашли, что лучше оставить эту обидную для них догадку без ответа, чем пускаться в рискованную авантюру истолкования гениальной, сложной эпопеи. Осторожнее промолчать, подождать пока выскажутся другие. В результате, появляются подробные и кропотливые статьи о всех третьестепенных беллетристах, а о Горьком и «Климе Самгине», кроме коротких однообразных комментариев, – ни полслова.
Не думаю, чтобы комплименты были вполне искренни. Не думаю, чтобы комплименты были вполне искренни. «Жизнь Клима Самгина», несомненно, крупнейшее произведение Максима Горького, — но крупнейшее только по размерам, а не по достоинствам. Роман прежде всего необычайно тяжел, монотонен, сбивчив и… скучен. Оценка может показаться излишне субъективной: что одному скучно, то другому интересно! Но в данном случае мнения едва ли разойдутся. «Жизнь Клима Самгина» скучна не столько по материалу или теме, сколько по манере изложения: бесконечный, медленный поток лиц, разговоров, событий и картин, без всякого развития и, в сущности, даже без фабулы… Такой поток — «le roman fleuve» — мог бы оказаться увлекателен, если бы передавал и отражал величавое, широкое, бездумное течение жизни. Но, увы, Горький не Толстой, не Бальзак, даже не Золя. Дыхания у него на «роман-реку» не хватает. В «Климе Самгине» встречается множество удачнейших, живых и очень ярких эпизодов, но в целое они будто «вкраплены» для развлечения читателя и тягучую ткань романа лишь иллюстрируют, как вставные картинки, с ней не сливаясь. Да и количество персонажей в романе таково, что их под конец становится трудновато помнить. Очерчены они, большей частью, искусно… однако все же не так метко, не так своеобразно и неповторимо, чтобы в нескольких строчках дан был весь человек. Не так, как в «Войне и мире», одним словом! И по мере того как появляются все новые и новые люди, каждый образ заслоняется другим, — и приблизительно к третьему тому остается в памяти лишь толпа призраков, то возникающих из небытия, то вновь в него возвращающихся. Горький — не романист, он мастер коротких, беглых зарисовок, перворазрядный «очеркист», если воспользоваться модным сейчас советским словечком. Никогда это не было так ясно, как при чтении «Жизни Клима Самгина».