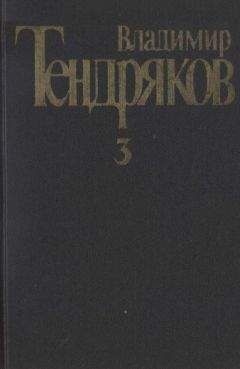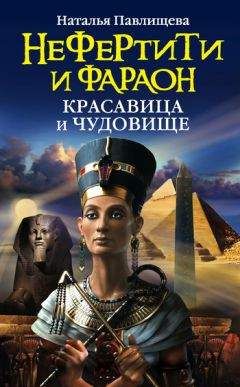Возле камина, поближе к теплу, прямо на затоптанном полу развалился телефонист, вызывал воркующим голосом:
— «Незабудка», «Незабудка», ты слышишь меня, «Незабудка»?..
От его телефона и должен тянуть кабель Федор.
Сашка захлопнул крышку рояля, встал — головой под потолок, необъятный в своем маскхалате, — рядом с ним даже громадный рояль казался мелким.
— Хватит, отдохнули… А ты, младший лейтенант, торопись к нам. У нас там землянки пошире твоих, хотя каминов и нету. Зато другого чего… Консервы, бутылки с золотыми головками. По вкусу — наш самогон, ежели не крепче. При Хлопотуне особо не развернешься, все бутылки в свои угол составил, сидит на них, как курица над цыплятами, пригрозил: «Кто самовольно тронет — пристрелю». Ходи да облизывайся, батько шутить не любит. Утром всем по стакану выдал, да мне, когда отправлял, на дорожку дал хлебнуть… Ну, коль вы придете, — гульнем… Торопись, младший лейтенант, готовь роту!
Помощник Федора, связист Сивухин, плутоватый мужик лет под сорок, сплюнул замусоленный бычок, резво поднялся:
— Пошли… Пора…
Сашка ухмыльнулся:
— Ишь ты, ожил…
Федор поднял с пола катушку. Конец кабеля от нее был сращен с линией у входа в землянку.
Телефонист, лежавший у камина, бросил:
— Ни пуха ни пера, ребята.
— Пошел к черту!
Черное вязкое небо, мутная белизна снега, колючий ветер.
— Вались, братва… — шепотом сказал Сашка и сам упал.
Упал — и в своем белом халате сразу же растворился среди серого снега. Федор узнавал, где он, только по шороху и сопению. Жгучий снег забивался в рукава шинели и ватника, визгливо скрипела раскручивающаяся катушка, пристроенная на спине. «Голосистая, сатана. Смазать бы — не догадались».
Ветер неровными порывами шумел над головой, дул наискосок от немца. Сзади пыхтел Сивухин, почти налезал на пятки Федору, помогал, если зацепится кабель… «Спешит Сивуха, надеется, что Хлопотун поднесет стаканчик из бутылки с золотой головкой…»
Сашка Голенищев переставал сопеть, поджидая, ворчал шепотом откуда-то из блеклой снежной мути:
— Ленивы, братцы, ленивы, шевелитесь-ка…
Федор таким же сдавленным шепотом огрызался:
— Тебе бы, слон, катушку на горб посадить!
Как кроты, буравили снег. Упор локтем, толчок ногой, еще толчок, еще… Скрипит катушка…
Перед глазами невнятная пелена снега. Снег — единственно осязаемая вещь, а все остальное кругом — чернота. Черно и пусто, как то Ничто, которое, наверное, наступает после смерти. Черно и пусто… Толчок коленом, еще толчок, еще… Ползешь вперед, в беспрерывно черный мир, где нет вещей, нет земли, нет звезд, нет жизни, туда, где не будет тебя самого.
Кончилась первая катушка. Искать нож по карманам долго, зубами сорвал смерзшуюся оплетку с кабеля, снег набился в рукава, запястья онемели, пальцы еле шевелятся, не могут связать оголенные проводники — тонкая работа для окоченевших рук. Подполз Сашка Голенищев, выдвинулся из темноты гора горой, дыхнул на Федора запахом махорки:
— Теперь близко. Но тут-то он, гад, и ущупывает. Сторожись!
А концы провода падают в снег, пальцы не держат. Федор выругался:
— Сволочь! Не выходит…
— Ш-ш… Не у мамки на печке. Беда с вами, ребята. Давай помогу, что ли…
Наконец стянули проводки, перехлестнули кабель петлей, чтоб не расползся. Вперед!
Теперь впереди, за валенками Сашки Голенищева, ползет Сивухин. Крутится катушка на его спине, выплевывает в снег тонкую нить кабеля.
Толчок, еще толчок, еще…
И вдруг Сивухин вместе с катушкой исчез. Сдавленный выкрик, шипение Сашки:
— Заткнись, холера… Выползай. В окоп рылом угодил.
Сивухин выполз. Полежали все трое, тесно прижавшись друг к другу, прислушивались — не открыли ли себя? Тихо, темно. Осторожно поползли дальше…
Не успели проползти и десяти шагов, как где-то в глубине бездонной черной пропасти явственно раздался щелчок. И через секунду снег, тот мутный снег, не до конца потушенный темнотой, еще сохранивший остатки своего цвета, внезапно вспыхнул голубым вопящим светом. Вся земля в холодном, до боли режущем глаза пламени. Вся земля трепещет, плещется, корчится — нагая, раздетая, огражденная еще более черным, плоским, как стена, небом.
И на голой, яркой земле — они, вжавшиеся в голубой снег.
Выброшенная вверх ракета нехотя покатилась вниз. Еще вовсю пламенела заснеженная земля. Издалека, со стороны, раздался глухой стук пулемета. Рядом — дотянись рукой — булькающими всхлипами тонули в снегу пули…
Ракета упала, пламенеющую землю словно накрыли ладонью. Но уже кончилась безликая чернота, разбуженная ночь забунтовала. За спиной широкими полосами с визгом рвали ночь трассирующие пули. Раскололась, плеснув багрянцем, одна мина, другая. Колючая, морозная, тончайшая снежная пыльца ударила в щеку…
И среди этого визга, глухого пулеметного выстукивания, нарастающего воя летящих мин кто-то в глубине ночи начал вертеть несмазанное колесо. Скрип!.. Скрип!.. Скрип!.. Один поворот, другой, третий…
«Ишак» — шестиствольный немецкий миномет!
Федор вжался в снег… Скрип! И смолкло…
Долю секунды тишина — даже пулемет перестал стучать. Затем вой. Выла не мина, выла голодная стая, мчащаяся по воздуху на Федора. Вой возрос до осатанелого надрыва, и… земля прогнулась под тупыми ударами — один за другим, один за другим, не верится, что их всего шесть — шесть мин, брошенных из шести стволов, — нет им конца.
Тишина, стучит пулемет, где-то в стороне, давясь в визге, кусают заснеженную землю пули. Пока целы, черт возьми!
— Ребята! — голос Сашки впереди. — Рви за мной, не то крышка!
Но вскочить не успели. Вспыхнула снова земля испепеляюще голубым пламенем. Скрип!.. Скрип!.. Скрип!.. Родилась в воздухе голодная стая, заполнила плоское, непробиваемо черное небо… Грохот справа, грохот слева — в скорлупе грохота, в кольце раскалывающих ночь всплесков пламени…
Радужные круги расплылись, заскользили перед глазами куда-то плавно, плавно, наискось вправо, вправо, словно сносимые ветром…
Последнее, что врезалось в память, — удушливо едкий, химический запах в морозном воздухе… Радужные круги наискось вправо, вправо…
19
Федор открыл глаза — ничего, только чернота, плоская, прижатая вплотную к зрачкам. Может, так и начинается та жизнь, жизнь по ту сторону? Может, она есть?
Но вперегонки, вперепляс резвятся автоматные и пулеметные очереди. Он лежит в кругу, очерченном выстрелами. Значит — жив. Он даже не так долго был в забытьи. Перестрелка-то не кончилась…
Федор приподнялся на увязнувших в снегу локтях, снова упал грудью на мягкий, уютный снег, застонал — от пяток до затылка прошибла резкая боль, вспотел лоб под надвинутой шапкой. Отлежался — боль прошла. Попробовал шевельнуть одной ногой, другой, почувствовал, что обе ноги — огромные, тяжелые, как два мешка песка, они горят, они раскалены, — казалось, снег под ними должен шипеть и таять.
«Значит, в ноги», — трезво и даже холодно отметил про себя Федор. Он снова приподнялся на локтях, и снова — всплеском по всему телу — боль, перед глазами рыжие горячие пятна — вправо, вправо, наискось… Федор упал лицом в снег.
Очнулся, во рту сухо, пылающими губами схватил снег, приятно заломило зубы, ясней стало в голове. Надо ползти… Куда?.. К своим. А ребята?.. Что с ними?..
Совсем рядом, шагах в трех, что-то темнело в снегу. Бережно, бережно, подтянулся на локтях, — ноги что якоря — не сдвинешь с места. Боль бьет в затылок… Оказывается, ее можно перенести. Вершок, еще вершок, руки дрожат в плечах… Все-таки дополз — валенки! Большие растоптанные валенки. Тряхнул за пятку;
— Сивухин…
Валенок пружиняще подался, принял прежнее положение.
— Сивухин…
Так можно будить камень или бревно.
— Сашка… Голенищев…
Тишина. Снова налег на дрожащие руки…
Сашка Голенищев в своем маскхалате, большой, горбом, как наметенный сугроб. И внутри этого сугроба что-то булькает, хрипит. Сашка дышит.
— Саш…
Федор тряс за плечо, пытался заглянуть в лицо разведчика. Но лишь хрипение и бульканье внутри.
— Саш-ка!
Тащить?.. Где уж… Сашка вдвое больше Федора, а Федор и себя-то самого волочить не может.
Кругом выстрелы, скрипит на немецкой стороне «ишак», где-то далеко рвутся мины, и рядом хриплое, клокочущее дыхание умирающего разведчика.
Вспомнил, как лежал летом перед плешивым, голым склоном оврага, смотрел пристально и серьезно: «Так вот где место моей смерти…» Нет, не там…
Весь мир разделен — черное небо и серый снег, снег и небо, выстрелы кругом и тишина рядом. И товарищи его — один мертв, другой умирает, недвижные ноги, слабые руки, кружится голова…