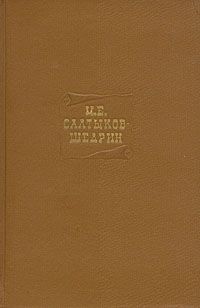Двадцать лет сряду все крупные явления русской общественной жизни встречали отголосок в сатире С., иногда предугадывавшей их еще в зародыше. Это – своего рода исторический документ, доходящий местами до полного сочетания реальной и художественной правды. Занимает свой пост С. в то время, когда завершился главный цикл «великих реформ» и, говоря словами Некрасова, «рановременные меры» (рановременные, конечно, только с точки зрения их противников) «теряли должные размеры и с треском пятились назад». Осуществление реформ, за одним лишь исключением, попало в руки людей, им враждебных. В обществе все резче заявляли себя обычные результаты реакции и застоя: мельчали учреждения, мельчали люди, усиливался дух хищения и наживы, всплывало на верх все легковесное и пустое. При таких условиях для писателя с дарованием С. трудно было воздержаться от сатиры. Орудием борьбы становится, в его руках, даже экскурсия в прошедшее: составляя «историю одного города», он имеет в виду – как видно из письма его к А. Н. Пыпину, опубликованного в 1889 г., – исключительно настоящее. «историческая форма рассказа» – говорит он, – «была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни… Критик должен сам угадать и другим внушить, что Парамоша – совсем не Магницний только, но вместе с тем и NN. И даже не NN., а все вообще люди известной партии, и ныне не утратившей своей силы». И действительно, Бородавкин («история одного города»), пишущий втихомолку «устав о нестеснении градоначальников законами», и помещик Поскудников («Дневник провинциала в Петербурге»), «признающий не бесполезным подвергнут расстрелянию всех несогласно мыслящих» – это одного поля ягоды; бичующая их сатира преследует одну и ту же цель, все равно, идет ли речь о прошедшем или о настоящем. Все написанное С. в первой половине семидесятых годов дает отпор, главным образом, отчаянным усилиям побежденных – побежденных реформами предыдущего десятилетия – опять завоевать потерянные позиции или вознаградить себя, так или иначе, за понесенные утраты. В «Письмах о провинции» историографы – т. е. те, которые издавна делали русскую историю – ведут борьбу с новыми сочинителями, в «Дневнике провинциала» сыплются, как из рога изобилия, прожекты, выдвигающие на первый план «благонадежных и знающих обстоятельства местных землевладельцев»; в «Помпадурах и Помпадуршах» крепкоголовые «экзаменуют» мировых посредников, признаваемых отщепенцами дворянского лагеря. В «Господах Ташкентцах» мы знакомимся с «просветителями, свободными от наук», и узнаем, что «Ташкент есть страна, лежащая всюду, где бьют по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». «Помпадуры» – это руководители, прошедшие курс административных наук у Бореля или у Донона; «Ташкентцы» – это исполнители помпадурских приказаний. Не щадит С. и новые учреждения – земство, суд, адвокатуру, – не щадит их именно потому, что требует от них многого и возмущается каждой уступкой, сделанной ими «мелочам жизни». Отсюда и строгость его к некоторым органам печати, занимавшимся, по его выражению, «пенкоснимательством». В пылу борьбы С. мог быть несправедливым к отдельным лицам, корпорациям и учреждениям, но только потому, что перед ним всегда носилось высокое представление о задачах эпохи. Литература, например, может быть названа солью русской жизни: что будет – думал С., – если соль перестанет быть соленою, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще. добровольное самоограничение?..
С усложнением русской жизни, с появлением новых общественных сил и видоизменением старых, с умножением опасностей, грозящих мирному развитию народа, расширяются и рамки творчества Салтыкова. Ко второй половине семидесятых годов относится создание им таких типов, как Дерунов и Стрелов, Разуваев и Колупаев. В их лице хищничество, с небывалою до тех пор смелостью, предъявляет свои права на роль «столпа», т. с. опоры общества – и эти права признаются за ним с разных сторон, как нечто должное (припомним станового пристава Грациапова и собирателя «материалов» в «Убежище Монрепо»). Мы видим победоносный поход «чумазого» на «дворянские усыпальницы», слышим допеваемые «дворянские мелодии», присутствуем при гонении против Анпетовых и Парначевых, заподозренных в «пущании революции промежду себя». Еще печальнее картины, представляемые разлагающеюся семьею, непримиримым разладом между «отцами» и «детьми» – между кузиной Машенькой и «непочтительным Коронатом» между Молчалиным и его Павлом Алексеевичем, между Разумовым и его Степой. «Больное место» (напеч. в «Отеч. Зап». 1879 г., переп. в «Сборнике»), в котором этот разлад изображен с потрясающим драматизмом – один из кульминационных пунктов дарования С. «Хандрящим людям», уставшим надеяться и изнывающим в своих углах, противопоставляются «люди торжествующей современности», консерваторы в образе либерала (Тебеньков) и консерваторы с национальным оттенком (Плешивцев), узкие государственники, стремящиеся, в сущности, к совершенно аналогичным результатам, хотя и отправляющиеся один – «с Офицерской в столичном городе Петербурге, другой – с Плющихи в столичном городе Москве». С особенным негодованием обрушивается сатирик на «литературные клоповники», избравшие девизом: «мыслить не полагается», целью – порабощение народа, средством для достижении цели – оклеветание противников. «Торжествующая свинья», выведенная на сцену в одной из последних глав: «За рубежом», не только допрашивает «правду», но и издевается над нею, «сыскивает ее своими средствами» гложет ее с громким чавканьем, публично, нимало не стесняясь. В литературу, с другой стороны, вторгается улица, «с ее бессвязным галденьем, низменною несложностью требований, дикостью идеалов» – улица, служащая главным очагом «шкурных инстинктов». Несколько позже наступает пора «лганья» и тесно связанных с ним «извещений». «Властителем дум» является «негодяй, порожденный нравственною и умственною мутью, воспитанный и окрыленный шкурным малодушием». Иногда (напр. в одном из «Писем к тетеньке») С. надеется на будущее, выражая уверенность, что русское общество «не поддастся наплыву низкопробного озлобления на все выходящее за пределы хлевной атмосферы»; иногда им овладевает уныние, при мысли о тех «изолированных призывах стыда, которые прорывались среди масс бесстыжества – и канули в вечность» (конец «Современной Идиллии»). Он вооружается против новой программы: «прочь фразы, пора за дело взяться», справедливо находя, что и она-только фраза, и, в добавок, «истлевшая под наслоениями пыли и плесени» («Пошехонские рассказы»). Удручаемый «мелочами жизни», он видит в увеличивающемся их господстве опасность тем более грозную, чем больше растут крупные вопросы: «забываемые, пренебрегаемые, заглушаемые шумом и треском будничной суеты, они напрасно стучатся в дверь, которая не может, однако, вечно оставаться для них закрытой». – Наблюдая, со своей сторожевой башни, изменчивые картины настоящего, С. никогда не переставал, вместе с тем, глядеть в неясную даль будущего. Сказочный элемент, своеобразный, мало похожий на то, что обыкновенно понимается под этим именем, никогда не был совершенно чужд произведениям С.: в изображения реальной жизни у него часто врывалось то, что он сам называл волшебством. Это – одна из тех форм, которые принимала сильно звучавшая в нем поэтическая жилка. В его сказках, наоборот, большую роль играет действительность, не мешая лучшим из них быть настоящими «стихотворениями в прозе». Таковы «Премудрый пискарь», «Бедный волк», «Карась-идеалист», «Баран непомнящий» и в особенности «Коняга». Идея и образ сливаются здесь в одно нераздельное целое: сильнейший эффекта достигается самыми простыми средствами. Немного найдется в нашей литературе таких картин русской природы и русское жизни, какие раскинуты в «Коняге». После Некрасова ни у кого не слышалось таких стонов душевной муки, вырываемых зрелищем нескончаемого труда над нескончаемой задачей. Великим художником является С. и в «Господах Головлевых». Члены Головлевской семьи, этого уродливого продукта крепостной эпохи – но сумасшедшие в полном смысле слова, но поврежденные совокупным действием физиологических и общественных устоев. Внутренняя жизнь этих несчастных, исковерканных людей изображена с такой рельефностью, какой редко достигают и наша, и западноевропейская литература. Это особенно заметно при сравнены картин аналогичных по сюжету – напр. картин пьянства у С. (Степан Головлев) и у Золя (Купо, в «Assommoir»). Последняя написана наблюдателем-протоколистом, первая-психологом-художником. У С. нет ни клинических терминов, ни стенографически записанного бреда, ни подробно воспроизведенных галлюцинаций; но с помощью нескольких лучей света, брошенных в глубокую тьму, перед нами восстает последняя, отчаянная вспышка бесплодно погибшей жизни. В пьянице, почти дошедшем до животного отупения, мы узнаем человека. Еще ярче обрисована Арина Петровна Головлева – и в этой черствой, скаредной старухи С. также нашел человеческие черты, внушающие сострадание. Он открывает их даже в самом «Иудушке» (Порфирии Головлеве) – этом «лицемере чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях». Никого не любя, ничего не уважая, заменяя отсутствующее содержание жизни массой мелочей, Иудушка мог быть спокоен и по своему счастлив, пока вокруг него, не прерываясь ни на минуту, шла придуманная им самим суматоха. Внезапная ее остановка должна была разбудить его от сна на яву, подобно тому, как присыпается мельник, когда перестают двигаться мельничные колеса. Однажды очнувшись, Порфирий Головлев должен был почувствовать страшную пустоту, должен был услышать голоса, заглушавшиеся до тех пор шумом искусственного водоворота. Совесть есть и у Иудушек; по выражению С., она может быть только «загнана и позабыта», может только устранить, до поры до времени, «ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании». В изображении кризиса, переживаемого Иудушкой и ведущего его к смерти, нет, поэтому ни одной фальшивой ноты, и вся фигура Иудушки принадлежит к числу самых крупных созданий С. Рядом с «Господами Головлевыми» должна быть поставлена «Пошехонская Старина»-удивительно яркая картина тех основ, на которых держался общественный строй крепостной России. С. не примирен с прошедшим, но и не озлоблен против него; он одинаково избегает и розовой, и безусловно-черной краски. Ничего не скрашивая и не скрывая, он ничего не извращает – и впечатление получается тем более сильное, чем живее чувствуется близость к истине. Если на всем и на всех лежит печать чего-то удручающего, принижающего и властителей, и подвластных, то ведь именно такова и была деревенская дореформенная Россия. Может быть, где-нибудь и разыгрывались идиллии вроде той, которую мы видим в «Сне» Обломова; но на одну Обломовку сколько приходилось Малиновцев и Овсецовых, изображенных Салтыковым? Подрывая раз навсегда возможность идеализации и крепостного быта, «Пошехонская Старина» дает, вместе с тем, целую галерею портретов, нарисованных рукою истинного художника. Особенно разнообразны типы, взятые С. из крепостной массы. Смирение, например, по необходимости было тогда качеством весьма распространенным; но пассивное, тупое смирение Конона не походит ни на мечтательное смирение Сатира-скитальца, стоящего на рубеже между юродивым и раскольником-протестантом, ни на воинственное смирение Аннушки, мирящейся с рабством, но отнюдь не с рабовладельцами. Избавление и Сатир, и Аннушка видят только в смерти – и это значение она имела тогда для миллионов людей. «Пускай вериги рабства» – восклицает С., изображая простую, теплую веру простого человека, – «с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело – он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда правда осияет его, наравне с другими алчущими и жаждущими. Да! колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма». Смерть, освободившая его предков, «придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и, свободному, даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, на встречу свободным отцам»! Не менее поразительна та страница «Пошехонской Старины», где Никанор Затрапезный, устами которого на этот ре несомненно говорит сам С., описывает действие, произведенное на него чтением Евангелия. «Униженные и оскорбленные встали передо мной осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков». В «поруганном образе раба» С. признал образ человека. Протест против «крепостных цепей», воспитанный впечатлениями детства, с течением времени обратился у С., как и у Некрасова, в протест против всяких «иных» цепей, «придуманных взамен крепостных»; заступничество за раба перешло в заступничество за человека и гражданина. Негодуя против «улицы» и «толпы», С. никогда не отождествлял их с народной массой и всегда стоял на стороне «человека питающегося любовью» и «мальчика без штанов». Основываясь на нескольких вкривь и вкось истолкованных отрывках на разных сочинений С., его враги старались приписать ему высокомерное, презрительное отношение к народу, «Пошехонская Старина» уничтожила возможность подобных обвинений.