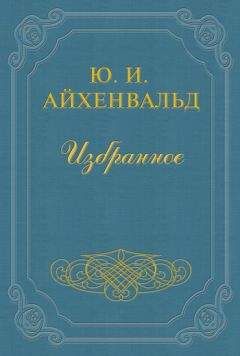Вообще, отдельные стороны его личности как бы нейтрализовали одна другую, почему и строили в его произведениях нечто психологически бесцветное, лишенное живых нюансов, мертвенные общие места. А в одном из своих писем к И. И. Дмитриеву он характеризует себя так, что на протяжении нескольких строк читатель невольно переходит от симпатии к тягостному недоумению: «Минут за 10 перед сим я выронил несколько слез, написав несколько строк для Потомства, не в своей Истории, а в другой бумаге, которую оставлю в наследство сыновьям. Я не Святой и не святоша; но Бог мне отец: не хочу страшиться суда Его. – Теперь я в хорошем расположении, а вчера был возмущен развратом и пьянством людей своих, так что отослал одного в полицию для наказания и велел отдать в рекруты»…
Есть, однако, все основания думать, что соединение умиленности с действенным обращением к полиции и рекрутчине должно быть отнесено больше на счет эпохи Карамзина, чем к его личности. Он не был так значителен и силен, чтобы высоко подняться над обычаями и практикой своего времени, но в его собственной натуре были элементы приветливой тишины, светлой благожелательности и бескорыстия.
Твой тихий нрав остался мне в наследство,
Твой дух всегда со мной,
верно говорит он, обращаясь к памяти своей матери, – и нежно и трогательно звучат его стихи:
Невидимой рукой
Хранила ты мое безопытное детство…
И зная, например, его отношения к Александру I и независимый тон его, во многом все-таки реакционной, «Записки о древней и новой России», принимаешь с верой и уважением его слова (из тех же писем к Дмитриеву): «Надобно доживать дни с семейством, с другом и с книгами. Мне гадки лакеи, и низкие честолюбцы, и низкие корыстолюбцы. Двор не возвысит меня. Люблю только любить Государя. К Нему не лезу и не полезу. Не требую ни Конституции, ни Представителей, но по чувствам останусь республиканцем, и притом верным подданным Царя Русского: вот противоречие, но только мнимое». Он не был сторонником «либералистов», он хвалил самодержавие, потому что оно «печи зимою в Северном климате», у него была, может быть, непомерная умеренность, – но у него было и несомненное благородство, и в русской жизни многое его искренне печалило, хотя бы цензура, которая «как черный медведь стоит на дороге». По воспоминаниям друзей и современников Карамзина, по свидетельству его переписки, шел от него ток душевной чистоты, религиозного смирения и скромности, и ради них прощаешь ему его безукоризненность и все ту же благоустроенность.
Эти личные свойства Карамзина поневоле приходят на память, даже когда речь идет о нем как об авторе. Но если, как это правильнее, мы и не станем смешивать писателя и человека, то и в таком случае слишком ясно будет, что предложенной выше отрицательной характеристикой Карамзина-беллетриста далеко не очерчивается его роль в истории нашей литературы. Его великолепный стиль, которым наслаждаешься и до сих пор, его чувство речи, его бесценные заслуги перед русским языком, который он так значительно обогатил, – все это обеспечивает ему право на вечную благодарность России. Кроме того, он был очень умен (именно потому, что его душа была гораздо ограниченнее его ума, он и не сделался настоящим художником), и этот ум, особенно в его стихотворениях, мелодичных и изящных, непринужденных и метких, иногда вводил его, покорителя слова, в преддверие поэзии; недаром Карамзин дорожил своими стихами, в тщательных примечаниях оправдывал их неясности, и они действительно представляют большой идейный и литературный интерес, в них много живой интеллигентной мысли, словесной красоты и легкости; в них есть подготовление к Пушкину (и даже один его будущий стих: «плоды душевной пустоты», – у Пушкина: «плоды сердечной пустоты»).
Наконец, исторически невозможно забыть, как он был культурен и как этой своей культурностью пошел на достойную службу русской культуре. Сколько бы он ни взывал к «объятиям Натуры», как бы на разные лады ни восклицал «Мать любезная, Природа!», он на самом деле никогда не был правоверным учеником Руссо, никогда не отдавался беззаветно великой стихийности и простоте, не ощущал их непосредственно, и всегда манило его в сторону искусства и просвещения; отсюда проистекали его роковые недостатки как писателя-художника, но отсюда – и его значение в истории родной культуры. Наш лучший европеец начала XIX века, наш любознательный путешественник, с уважением к чужбине, но без робости перед нею, верный и любящий сын своей родины, Карамзин долго являл собою живое звено между Западом и Востоком, был вестник Европы для России и вестник России для Европы, и прежде чем он замкнул себя в торжественные рамки известной официальности и благолепия, прежде чем отошел от своего принципа: «Все народное ничто пред человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами», – он усердно и плодотворно поработал во имя уничтожения границ, ради примирения между своим и чужим, во славу единой человечности.