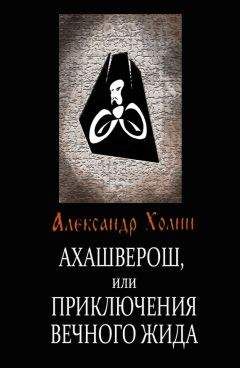Конечно, философ прокомментировал бы эту ситуацию как диалог разных дискурсов власти – власти масс-медиа, победивших литературу, и власти научного знания, нарративов, – и указал бы разные «референтные группы», составлявшие аудиторию, скажем, «Русского телеграфа» или «Бостонского курьера», и, как следствие, разные механизмы обретения символических ценностей и разную структуру этих символических ценностей при процедуре чтения газетной или научной статьи. И, по мнению философа, совершенно естественно, если читателю раздела «Публицистика» будет совершенно чужд язык раздела «Эссеистика», и наоборот. Но, с другой стороны, при такой композиции появляется еще один сюжет – не только диалога, но и противоборства разных дискурсов власти, их борьбы за более высокий статус в социальном пространстве. В то время как критик, более внимательный к деталям, заметил бы, что составитель постарался не трогать тексты, опубликованные с конца 80-х по настоящее время (и, увы, не оснастил необходимым аппаратом статьи, которые в газетах публиковались без ссылок), а для создания иллюзорного единства отобрал для раздела «Эссеистика. Литературоведение» предварительные и более облегченные (в смысле стиля) варианты статей, то есть именно те, что были опубликованы философом в журналах, а не вошли в его монографию «Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти».
Публицист – немного, но педант. Уж он-то заметил, что если все разделы построены по хронологическому принципу, когда более ранние работы предшествуют более поздним, то его раздел завершается статьей «1992-й год», написанной им для энциклопедии журнала «Сеанс» раньше других, в середине девяностых годов, и при этом ретроспективной по отношению ко всему разделу, затем опять выдерживается хронология, нарушаемая в очередной раз в разделе «Воспоминания. Очерки», который следует за «Эссеистикой», составленной из статей 1995-2000-х годов, в то время как эссе «Через Лету и обратно» было написано в 1989-м, а «Веревочная лестница» из Аppendix – в 1980-м.
Что остается добавить: из статей, вошедших в «Вестник новой литературы», составитель выбрал только опус Ивана Кавелина «Истоки русского пессимизма», потому что он отвечает тематическому единству этого раздела (но тон, но замашки философа из «Вех»?). Да, «Веревочная лестница» была одним из тех двух эссе, которые были написаны еще до того, как автор расслоился на несколько персонажей, среди которых, кстати, оказался и журналист, так им ранее презираемый. Но теперь он стал скромнее, наш автор (вот она, факультативная польза от разрушения высокомерного литературоцентризма), и никого не презирает. Ну почти никого. По крайней мере в состоянии сказать сам себе: каждому свое. И не сразу начать все сказанное опровергать.
ПУБЛИЦИСТИКА
Истоки русского пессимизма
Есть смысл поразбираться в причинах «духовной глубины, неуспокоенности» и одновременно «безрадостной жизни» – наиболее устойчивых характеристик российской действительности.
Общеизвестны противоречивость, антиномичность, полярность русской жизни, но где истоки тяги к полюсам и крайностям? Является ли безрадостность жизни, некрасивый, безобразный быт следствием «духовной глубины и неуспокоенности» или «духовная глубина» есть результат неустроенности и непривязанности к житейскому?
Существует несколько хрестоматийных соображений. Согласно одному из них, причины современного русского пессимизма в противоестественном образе жизни России в XX веке, навязанном ей в противоречии с народными устоями. В соответствии с другим, современные бессилие и апатия есть следствие симптоматичного для русского характера мироощущения, чуть ли не отвращения к жизни, изредка сменяемого кратковременной эйфорией – откликом на ситуацию внешнего, общественного, государственного значения.
Можно было бы обойтись сомнительной констатацией, что существуют народы-оптимисты, скажем, американцы, и народы-пессимисты, к которым вроде бы следует отнести русских. Но почему одни оптимисты, а другие пессимисты, да и не бывает народов, состоящих из одних пессимистов и оптимистов, они перемешаны почти неразличимо. Имеет смысл говорить об устойчивых стереотипах поведения, о бытовых пристрастиях и психологических установках. В любом случае нас интересует как соотнесение «духовной глубины» и «безрадостной, безобразной жизни», так и истоки этих явлений.
Налицо только почти не требующее доказательств «плохое настроение» русского в последней четверти XX века, безобразные дороги, грязные улицы и дворы, неухоженные города и заброшенные деревни, неуютная семейная жизнь, неустроенный, некрасивый быт, неловкое, неустойчивое положение человека среди окружающих его людей и вещей, скука, апатия, усталость и очевидное нежелание или неумение это положение изменить. Словно бы затянувшаяся жизнь на чемоданах – невозможно, неохота, не имеет смысла устраиваться всерьез и надолго. Подозрительное отношение к будущему, которое видится еще более мрачным, нежели настоящее. Неверие в свои силы. «Все равно они не дадут нормально жить!» Кто «они»? Может, действительно, все дело в большевиках?
Но вот что пишет В. Ключевский об образе жизни в Древней Руси: «Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили только поесть и отдохнуть»1. Кое-как. Неприхотливо. То есть без желания «окружить себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо»2. Кое-как. Может, татары виноваты? Нет, это еще до татар, да и урон, понесенный Русью от татар, теперь ставится под сомнение не только Л. Н. Гумилевым и его последователями. А жили и до и после некрасиво. Кое-как. Без желания устраиваться. «Домой приходили только поесть и отдохнуть». Почему?
На этой фразе стоит помедлить, разобраться. Отдохнуть от чего? И отдохнуть как? Если живешь спустя рукава, но все-таки живешь, то зачем-то это нужно? А нужно было то, что нужно было всем, что нужно было народу, Древней Руси, Москве, России, империи, государству. На протяжении всей своей истории строил русский человек свое государство, причем строил, в отличие от остальных и многих, так, что считал это настолько важным и главным, что ради этого стоит жить кое-как. Строили государство и другие, но строили таким образом, чтобы о себе и своей жизни не забыть. А здесь: «Интересы созидания, поддержания и сохранения огромного государства занимают совершенно исключительное и подавляющее место в русской истории»3. И поэтому: «Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства»4.
Но ведь не было такого приказа – «строить государство, живота не жалея и живя кое-как, домой приходя только поесть и отдохнуть». В этом проявилось бессознательное волеизъявление русского человека, его выбор. Был выбор, была возможность и жить, и государство строить. Была возможность прежде всего жить, жить не кое-как, а нормально, думая прежде всего о себе, а потом строить государство. А русский человек выбрал строить государство, а жить кое-как. «Эта особенность русской истории, – писал Н. Бердяев, – наложила на русскую жизнь печать безрадостности и придавленности»5.
Однако здесь можно и усомниться. Получается: «строить государство» – причина, а жить кое-как, некрасиво, испытывая чуть ли не отвращение к жизни – следствие? А почему не наоборот: сначала – «отвращение к жизни», нежелание жить для себя, «для жизни», а единственный костыль, единственное оправдание: не для себя живу, для других. Для народа, государства, будущего. Так ли это? Имеет смысл внимательнее посмотреть на то, что любил, ценил и что не любил, не ценил русский человек на протяжении своей истории.
О первоначальном периоде русской истории мы имеем лишь отрывочные представления, зато устойчивую систему ценностей внесло в русскую жизнь православие. Вглядимся в лики русских святых, ибо именно они наиболее точно выражают русский характер, его симпатии, антипатии и особенности, ибо здесь «выбирали из многих». Неоднократно отмечалось, что русские святые – необычные святые, недаром константинопольские патриархи противились канонизации многих из них. И как пишет А. Панченко по поводу первых русских святых, Бориса и Глеба: «Резон в этом сопротивлении был; конечно, это мученики, но погибли они не за веру»6. Действительно, страстотерпцы Борис и Глеб, первые русские святые, дети равноапостольного князя Владимира, были не мучениками за Христа, не подвижниками веры, а пали жертвой политического преступления, в княжеской усобице, и были убиты своим старшим братом Святополком Окаянным в 1015 году.
Почему же они были канонизированы? Как считает П. Федотов, «не мирянское благочестие князей, а лишь смертный подвиг их остался в памяти народной»7. В чем суть этого подвига? Здесь интересно не только то, что происходило на самом деле, сколько рецепция действительных событий, отразившаяся в последующих преданиях. «Смерть князя Владимира застает Бориса в походе на печенегов. Не встретив врагов, он возвращается к Киеву и дорогой узнает о намерении Святополка убить его. Он решает не противиться брату, несмотря на уговоры дружины, которая после этого оставляет его. На реке Альте его настигают убийцы, вышгородцы, преданные Святополку. В своем шатре князь проводит ночь на молитве, читает (или слушает) утреню, ожидая убийц. Путша с товарищами врываются в палатку и пронзают его копьями. Верный слуга Бориса, “утр” (венгр. – М. Б.) Георгий, пытавшийся своим телом прикрыть господина, убит на его груди. Обернув в шатер, тело Бориса везут на телеге в Киев. Под городом видят, что он еще дышит, и два варяга приканчивают его мечами. Погребают его в Вышгороде у церкви св. Василия.