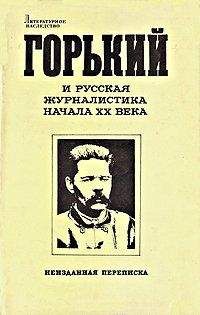Тогда мало-помалу выяснилась «неудача» христианства: оно «не удалось», ибо путь от духовной революции к социальной оказался перерезанным: старый мир с мечом в руках стоял на этой дороге внутри самой христианской коммуны. И через два тысячелетия человечество пришло к обратному пути — от социальной революции к духовной. Впереди — победа социальной коммуны; но еще долго старый мир будет становиться на пути этой мировой революции. Будут бороться с ней извне все те «буржуи», о которых говорится в поэме «Двенадцать»; будут бороться с ней изнутри более опасные враги — различные волки в овечьих шкурах.
Трудна дорога, и победа придет еще не скоро. Она придет, вероятно, лишь тогда, когда ясно станет человеку, что нет полного освобождения ни в духовной, ни в социальной революции, а только в той и другой одновременно. Но очистительная гроза и буря мировой социальной революции таит в себе великую правду. Правды этой не видят многие «писатели», «витии», «барыни в каракулях», но ее видят и чувствуют многие и многие среди выделивших из себя «двенадцать». И за эту правду, помимо их воли через них идущую в мир, поэт «белым венчиком из роз» украшает чело великой русской революции.
Снежная вьюга революции начинается с первых же строк поэмы; и с первых же строк ее черное небо и белый снег — как бы символы того двойственного, что совершается на свете, что творится ныне в каждой душе.
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек…
Так через всю поэму проходят, переплетаясь, два внутренних мотива. Черный вечер — кровь, грязь, преступление; белый снег — та новая правда, которая через тех же людей идет в мир. И если бы поэт ограничился только одной темой, нарисовал бы или одну только «черную» оболочку революции, или только ее «белую» сущность — он был бы восторженно принят в одном или другом из тех двух станов, на которые теперь раскололась Россия. Но поэт, подлинный поэт, одинаково далек и от светлого славословия и от темной хулы; он дает двойную, переплетающуюся истину в одной картине:
Черный вечер. Белый снег.
Вся поэма — в этом.
И на этом фоне, сквозь белую снежную пелену рисует поэт черными четкими штрихами картину «революционного Петербурга» конца 1917 года. Тут и огромный плакат «Вся власть Учредительному Собранию!», и «невеселый товарищ поп», и старушка, которая «никак не поймет, что значит», и оплакивающая Россию «барыня в каракуле», и злобно шипящий «писатель, вития»… И так все это мелко, так далеко от того великого, что совершается в мире, так убого, что «злобу» против этого всего можно счесть «святой злобой»:
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди…
Черная злоба, святая злоба…
Товарищ! Гляди
В оба!
И вот на этом фоне, под нависшим черным небом, под падающим белым снегом — «идут двенадцать человек»… О, поэт нисколько не «поэтизирует» их! Напротив. «В зубах — цыгарка, примят картуз, на спину б надо бубновый туз!» А былой товарищ их, Ванька, — «в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой» — летит с толстоморденькой Катькой на лихаче, «елекстрический фонарик на оглобельках»…
И этот «красногвардеец» Петруха, уже не раз бросавшийся с ножом на Катьку («У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа, у тебя под грудью, Катя, та царапина свежа!»), этот Петруха, уложивший уже офицера («не ушел он от ножа!»), а теперь угрожающий расправою и новому сопернику: «Ну, Ванька, сукин сын, буржуй! Мою, попробуй, поцелуй!» И сама эта Каллипига Невского проспекта («больно ножки хороши!»), эта толстоморденькая Катя, которая «шоколад Миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла»… И эти товарищи Петрухи, без минуты раздумия расстреливающие мчащихся на лихаче Ваньку с Катькой: «Еще разок! Взводи курок! Трах-тарарах!»… И убитая Катька — «лежи ты, падаль, на снегу!» И насмешки товарищей над Петькой, помянувшим имя Христа: «Петька! Эй, не завирайся! От чего тебя упас золотой иконостас? — Бессознательный ты, право; рассуди, подумай здраво — али руки не в крови из-за Катькиной любви?»
Это ли апостолы новой благой вести? Это ли те «двенадцать», которым предшествует «в белом венчике из роз, впереди — Исус Христос»? Или и на этот раз он «со беззаконными вмени-ся»? Или и на этот раз «беззаконство» хоть и не прощается, но покрывается чем-то высшим?
Смерть Катьки не прощается Петрухе. «Ох ты горе-горькое, скука скучная, смертная!» И пусть не раскаяние, а новая злоба лежит на его душе — «уж я ножичком полосну, полосну! Ты лети, буржуй, воробышком! Выпью кровушку за зазнобушку чернобровушку!» — но гнета не снять с души: «Упокой, Господи, душу рабы твоея… Скучно!» И разве в раскаянии тут дело? Правда, разбойника благоразумного во единем часе раеви сподобил еси, Господи[10], - но что знаем мы о другом разбойнике, «безумном»? И в крови скольких женщин и детей были, быть может, обагрены руки его «благоразумного» товарища, сораспятого Христу евангельского «злодея»? И ему — прощение, ему — рай за «раскаяние», за «помяни мя Господи»? И злодейства «двенадцати» тогда не покрываются ли тем, что стоит за ними, не черной стихией, а светлым сознанием? Пусть кажется им, что идут они против Христа, против креста —
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та! —
но все же впереди них роза и крест в нижней поступи надвьюжной, в снежной россыпи жемчужной…
Черное не прощается, черное не оправдывается — оно покрывается той высшей правдой, которая есть в сознании «двенадцати». Они — темные убийцы, злодеи (нарочно ведь взял поэт именно таких!) — они чуют силу и размах того мирового вихря, песчинками которого являются. Они чуют и понимают то, что злобно отрицает и «писатель, вития», и обывательница в каракуле, и «товарищ поп» и вся духовно павшая «интеллигенция» в кавычках. И за эту свою правду — «пошли наши ребята в красной гвардии служить, в красной гвардии служить, буйну голову сложить!» За эту правду они и убивают, и умирают. Знают ли они, что идут против мирового Атланта, что все своды его старого здания предают огню? Знают — ив этом их благая весть мировой социальной революции:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи благослови!
Правда, сами не знают они, какого они духа, сами не знают, насколько совершающееся ныне в мире глубже видимой им внешности «буржуев» (а может быть, не знают, но чуют? — ведь «мировой пожар в крови»!). Но знают они твердо, что к старому миру возврата нет, что «Святая Русь» лежит по эту сторону разделившей всех нас пропасти (и ненавидят же их за это все заупокойные плакальщики о России!). Знают они, что «Святая Русь», что весь старый мир — отныне худшие и непримиримейшие их враги. Знают — и зовут: «Вперед, вперед, рабочий народ!»
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!
И знают они, что борьба предстоит упорная, долгая, чуют они, что Атлант до конца будет стоять горой за кирпичи старого мира. И через кровь, через злодеяние слишком легко, быть может, готовы они перешагнуть: «Потяжеле будет бремя нам, товарищ дорогой!» Это бремя — бремя тяжелой борьбы со старым миром, который теперь «хвост поджал — не отстает», но который еще обратится в злобного волка, отстаивающего свою старую нору мещанского мира. Не могучим Атлантом, а побитым псом представляется теперь «двенадцати» (и поэту!) старый мир. Он разбит в первой схватке — и идут дозором «двенадцать», твердо зная, что «вот — проснется лютый враг»…
Так от реального «революционного Петербурга» поэма уводит нас в захват вопросов мировых, вселенских. Все реально, до всего можно дотронуться рукой — и все «символично», все вещий знак далеких свершений. Так когда-то Пушкин в «Медном всаднике» был на грани реального и надисторических прозрений.
Да, такие сокрушающие сравнения выдерживает поэма Александра Блока. «Как будто грома грохотанье, тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой»[11] — заканчивается в наши дни. Конец петровской России — конец старого мира. Было время его славы, расцвета, могущества, — и бережно понесем мы в новый мир вечные «эллинские» ценности мира старого: не испепелятся они и в огне. Но временные ценности его падут прахом в грозе и буре, в разыгравшейся вьюге. В просветы ее мы видим и теперь: на том самом месте, где прервалось тяжело-звонкое скаканье Медного Всадника, там теперь — «над невской башней тишина». Где же Конь? Где же Всадник? Их нет. И там, где был Конь, — там теперь стоит «безродный пес, поджавши хвост»; там, где был Всадник, там, где в «неколебимой вышине над возмущенною Невою стоял с простертою рукою кумир на бронзовом коне», — там теперь «стоит буржуй на перекрестке и в воротник упрятал нос»…