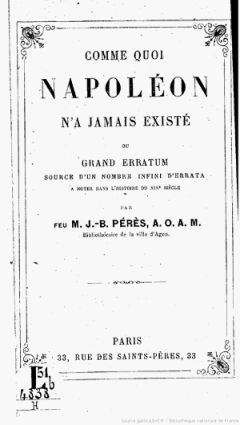Итак, не отцы и не сверстники наши виноваты в том, что призраки тяготеют над миром, а виноват в этом самый процесс наращения и надумывания, который происходит медленно и болезненно. В то время, когда общество начинает уже о чем-то догадываться, что-то подозревать, старая истина все остается в той же суеверной неприкосновенности и предъявляет всё те же права на общество, именно на том основании, что догадка и подозрение не составляют еще никакого существенного фонда для замены отживающей истины. Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир. Кумир этот исчерпал все свое содержание, он обессилен и не извлекает воды из гранита, а человек все еще простирается перед ним. все еще приносит ему жертву за жертвою. Какая горькая тайна присутствует в этой связи живущего с отжившим, в этом обоготворении мертвечины? Тот, кто даст себе труд вдуматься в то, что сказано выше об отношениях человека к природе, конечно, не усумнится ответить, что тут и тайны никакой нет.
Всякий призрак имеет свою долю истины или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени. Сверх того, всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и не соответствующего потребностям жизни. Сверх того, всякий призрак есть вместе с тем переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному. Вот сколько внутренних нитей связывает человека с призраком, вот сколько прав имеет последний на жизнь обществ! История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории (впрочем, светлой-то и успокоительной покуда и не обреталось). Младенческое состояние точных наук, порождающее исключительное господство спекулятивных знаний и допускающее беспрерывные новые открытия, которые ниспровергают все, над чем трудились, в чем не сомневались целые поколения, — все это такие преткновения, при существовании которых достижение идеала, то есть счастия, представляется чем-то крайне сомнительным, если не окончательно невозможным. Если я не уверен, что мое сегодняшнее знание есть знание действительное, если я постоянно нахожусь под страхом, что то, что я сегодня признаю за благо, завтра, при помощи новых данных, долженствующих расширить горизонт моей мысли, перестанет быть таковым, то очевидно, что ясность моего существования должна быть возмущена, что я не могу иметь ни спокойствия в настоящем, ни уверенности в будущем. Поистине, можно даже подумать, <что> в самом принципе развития и совершенствования, которому неуклонно следует человечество, уже заключается условие величайшего для него несчастия, и, конечно, человечеству было бы невозможно существовать, если б впереди не блистала ему мысль, что цикл колебаний когда-нибудь да кончится. Что это за мысль и в какой степени осуществима она? Не составляет ли она, в свою очередь, призрака, величайшего из всех призраков? Не похоже ли в этом случае человечество на чернорабочего, который все работает и все чего-то ждет, какой-то перемены в своем неотрадном положении. «Вот еще немного потерплю, вот вынесу еще несколько лишений, — повторяет себе бедняга, — и потом буду счастлив!» — а на поверку оказывается, что и еще приходится терпеть, и еще нести лишения. Человечество инстинктивно думает ту же думу и охотно увлекается всякою новою истиной, всяким новым призраком. На первых порах живется легко; на первых порах истина удовлетворяет всех, хотя и действует обманом, то есть торжествует насчет общего нравственного возбуждения. Но обман обнаруживается; болезненное дерево, давшее ему жизнь, начинает гнить, увлекая за собой и плод… Нужно опять и опять идти, опять и опять искать… Куда идти? чего искать? Каких держаться руководящих истин?
В особенности ощутительно дает себя чувствовать эта трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы. Никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить, и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит. Наружно, языческий мир распался, а языческое представление, а языческие призраки еще тяготеют всею своею массою; Ваал упразднен, а ему ежедневно приносятся кровавые жертвы; явления, подобные Юлиям Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество. Изменились подробности, но смысл и господствующий тон трагедии остался прежний. Что может быть безотраднее, постылее, возмутительнее, даже пошлее такого положения?
Читатель! случалось ли вам когда-нибудь ощущать, что возможность жить вдруг как-то прекращается? Случалось ли вам спрашивать себя, отчего мысль и руки отбиваются от дела, отчего еще вчера казалось светло, а нынче уже царствует окрест мрак? Отчего люди, жившие доселе в добром согласии, внезапно и искренно приходят к убеждению, что нет никакого разумного повода не только для доброго согласия, но и для простого совместного жительства?
Но это бы еще ничего. Люди, по каким-либо причинам приходящие к сознанию, что им вместе нечего делать, могут разойтись каждый в свой угол и там откровенно позабыть друг о друге. Отчего же они не забывают и не расходятся? отчего, напротив того, они ищут друг друга, чтобы сильнее питать в себе чувство ненависти и озлобления? Ужели и впрямь чувство ненависти может когда-нибудь сделаться единственною путеводною нитью жизни? ужели его одного достаточно, чтобы наполнить ее содержание?
Да; бывают такие черные дни в истории человечества, и, что тяжелее всего, они повторяются периодически. Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом.
Авгуры последних времен Римской империи не могли без смеха взирать друг на друга и между тем все-таки продолжали ремесло свое. Положим, что это были люди бесстыдные, внутренно убежденные в ничтожестве своих заклинаний и рассчитывавшие на невежество масс, только ради личных выгод, да ведь и массы-то уже не верили в них, ведь и массы уже были достаточно прозорливы, чтобы оценить по достоинству безобразные кривляния распадающегося язычества: для чего же они так упорно держались этих кривляний? для чего они с таким озлоблением преследовали новую истину, робко возникавшую рядом с истиной умирающей? Не потому ли, что массы одарены здравым смыслом, не потому ли, что они инстинктивно понимают, что здесь не происходит ничего иного, кроме замены одного призрака другим, не потому ли, наконец, что они замучены жизнью и изверились в возможность ее? И между тем, несмотря на преследования, несмотря на отпор, новый призрак все-таки прокладывает себе дорогу, как вор подкапывается под основы старого призрака и наконец врывается-таки в самые святилища его. Общество торжествует и чувствует себя обновленным, но вместе с тем скоро, очень скоро после первых порывов нравственного возбуждения с горьким изумлением замечает, что новые формы жизни, которых оно так жаждало и так жадно призывало, в сущности, составляют не более как новый же призрак…
Недаром летописи подобных эпох полны сказаний о самоубийствах: это факт в высшей степени знаменательный. Всем тяжело жить, но вдвое тяжелее ярмо жизни для людей мыслящих и чувствующих. Грандиозность жизненного течения исчезает, явления мельчают, вера в прогресс уничтожается, глазам представляется заколдованный круг… Чему верить? Сердце так полно жажды счастья, но вместе с тем так оскорблено и озлоблено, что с глубокою ненавистью отворачивается от этой исполненной тления жизни. Остается идти к ничтожеству, верить в ничтожество. Смерть делается властительницей дум, ибо она одна что-нибудь разрешает в этом хаосе бессмысленных противоречий, ибо она одна что-нибудь содержит в этой пучине пустоты. Представление смерти является чем-то сладким, отрадно усыпляющим: человек вдумывается в явления жизни, вдумывается в смысл смерти и доходит почти до опьянения, до обоготворения ничтожества. Не узы, но освобождение от уз видит он в смерти, ибо для чего же и жизнь, если она ведет от одного противоречия к другому, от одного ничтожества к другому?
Из всего этого видно, что освободиться от призраков нелегко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительною, а не кажущеюся жизнью, необходимо. Не в силу того, что он окончательно сбросит с себя ярмо их, что он изобретением новой и всеобщей панацеи заключит нескончаемый цикл алхимии и астрологии и обратится к более простым и естественным отношениям к природе, но в той уверенности, что старые призраки все-таки заменятся новыми, что, наконец, может настать и такое время, когда призрак и в общем сознании перестанет казаться идеалом. Но ведь общество не будет через это выведено из области призраков? но ведь ему не будет от этого легче? Да, быть может, и не будет выведено (по крайней мере, в настоящую минуту, при настоящем положении наук, едва ли имеем мы право предвидеть что-либо похожее на возможность всеобщей гармонии), но легче ему все-таки будет; ему будет легче уже по тому одному, что оно перестанет относиться к призракам чародейственно, что оно поймет, что нет никакой необходимости трепетать там, где стоит только дунуть, чтобы разорить в прах целое здание. Ему будет легче уже потому, что всякий новый призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. Дикий вотяк перестал верить в своего идола, но он еще боится его, но он еще обмазывает его медом и сметаной, чтоб умилостивить. Очевидно, он делает это потому, что у него нет в виду другого готового призрака; он сознает уже, что идол, который доселе кабалил всю его жизнь, глуп, мертв и вообще неудовлетворителен, но еще не понимает, что другой-то призрак, которого пришествие он смутно предчувствует, не идет потому только, что он, вотяк, не вполне еще расквитался с своим старым, глупым идолом. Надо ему растолковать это и облегчить работу его освобождения; надо доказать ему, что освобождение необходимо должно сопровождаться оплеванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями и что тогда только расчет с идолом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен, что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него.