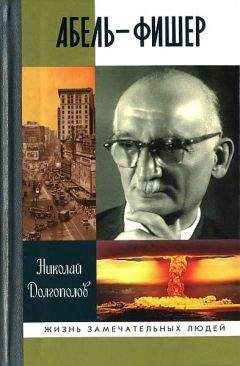«Тонкая холеная рука Чечилии нежно поглаживает шелковистую шерстку горностая — одного из геральдических символов власти герцогов Сфорца. Маленький зверек отвечает на ласку. Вы слышите шорох и потрескивание драгоценной ткани под коготками горностая.
Метафора… Вот одна из основных примет портретов Леонардо. Геральдический символ рода Моро, имя его прекрасной возлюбленной и живой зверек — горностай. Это сочетание самых, казалось, несовместимых слагаемых выливается в одному Леонардо да Винчи известную формулу. Он ставит перед зрителем загадку, заставляет его думать, исследовать, домысливать многозначный образ.
Метафора… Она и в пластических параллелях портрета. Посмотрите на изящный поворот головки зверька, его миловидную остроглазую мордочку и взгляните на очаровательную женщину. Обратите внимание на коготки растопыренной лапки горностая и на движение кисти руки Чечилии. Есть что-то схожее с осторожной, кошачьей, может быть, не очень доброй ласковостью этих касаний. Не появляется ли внезапно мысль, может быть кощунственная, о невольном, а может быть, и не о невольном сходстве молодой красавицы и маленького хищника».
Вот как много могут сказать крошечные, неприметные даже наметанному глазу детали картины. Вот так пишут великие мастера: ничего случайного, за любой малостью — двойной и тройной смысл, ничего плоско житейского, исчеркивающегося в самом себе, все возведено в ранг символа.
Полотно двухмерно, но сейчас оно обретает еще два измерения: глубину и время. Не правда ли, нас научили видеть шедевр Леонардо?
Иным образом Долгополов сближает нас с Рафаэлем. Безмерно трудно писать о художнике, о котором написаны «тонны» исследований. И еще труднее писать о Сикстинской мадонне, которая по своей популярности может поспорить с Джокондой. И. Долгополов идет от судьбы художника к картине. И прежде всего он доказательно разрушает миф об эльфически легкой, безоблачной судьбе Рафаэля. Гений, не ведающий трудностей в своем искусстве, баловень счастья, которому все дается шутя, красавец, любимец века — вот привычный образ Рафаэля. И кажется, он ушел в тридцать семь лет, осушив до дна сладостную чашу жизни. Долгополов иначе читает Рафаэля. Тот рано потерял горячо любимую мать и мучительную тоску о ней перенес на свои холсты: его «маленькие мадонны» — чистые, добрые, любящие — не только образ материнства, но и образ его тоски, поэтому так трогают и завораживают эти небольшие наивные холсты. Он учился у знаменитого Перуджино, но это была как бы средняя школа, его истинными учителями были титаны Возрождения: сперва Леонардо, потом Микеланджело. В Рим он приехал сложившимся художником. Он пишет великолепную «Афинскую школу» для Ватикана, где центральной фигуре, царю философов Платону, придает черты своего кумира да Винчи.
Он любимец воинственного папы Юлия, баловень аристократического Рима, заказы сыплются со всех сторон, скромный юноша из Урбино становится самым модным человеком своего времени. Он уже не справляется с заказами, на него работает целая живописная мастерская, а он проходится по картине рукой мастера. И только сам замечает, как отяжелела его кисть, как высокую простоту стала подменять изысканность. Лишь в портретах остается он равен лучшему в себе. Никто не догадывается о том глубоком душевном и творческом кризисе, который переживает этот очаровательный, легкий, улыбчивый человек. Ни папе Юлию, ни его преемнику папе Льву не нужен художник с нахмуренным челом, хватит одного Буонарроти, который в полном одиночестве творит величайший художе ственный подвиг: роспись Сикстинской капеллы. И однаж ды архитектор Браманте дает увидеть Рафаэлю тайком фрески плафона капеллы. Рафаэль потрясен — вот как должен созидать тот, кто выше владык земных, выше успеха и богатства ставит Искусство. В росписях Рафаэля появляется мускулистая, увесистая сила, новая выразительность, и все же он понимает, что проигрывает в заочном поединке с Микеланджело. А ведь он может если не превзойти, то стать рядом с этим колоссом, а в чисто живописном плане так и осилить великого формотворца. И тут, словно в «Моцарте и Сальери», где загадочный черный человек заказывает Моцарту «Реквием», монахи дальней захудалой обители попросили Рафаэля написать ту Мадонну, которая воссияла над миром под именем Сикстинской. Словно предчувствуя, что это последняя возможность сказать свое главное слово, спеть лучшую песню, выразить себя до конца, Рафаэль принимает заказ бедной обители и с небывалым вдохновением творит величайшее живописное чудо всех времен и народов и становится навсегда Первым…
И уходит.
Через судьбу Рафаэля, через его муки подводит нас Долгополов к прославленному полотну, чтобы мы по-новому зоркими, будто ключевой водой промытыми глазами, узрели его.
Рубенсу охотно позировали короли, полководцы, знать, а он тратит свое драгоценное время на два (!) портрета — графический и маслом — безвестной девушки. Конечно, не из демократических побуждений; в милых и вроде бы заурядных чертах дворцовой мышки он прочитал время с его пряной остротой, двоедушием, испорченностью, страхом и корыстью, блеском и нищетой. Вот как много может содержать небольшой портрет безымянной участницы человеческой комедии. Это исследование или расследование — принципиальная удача Игоря Долгополова. Связь «модель — художник — эпоха» прослежена безукоризненно и, не боюсь сказать, вдохновенно.
В работах Долгополова нет социологизирования, но он всегда помнит, в какую эпоху творил тот или иной художник, и показывает его внутри общества, внутри той социальной действительности, которой он принадлежал. Он раскрывает тяжкую борьбу, иногда невыносимые трудности бытия своих героев, их битву с пошлостью, мраком, за свет и правду большого искусства. Таковы рассказы о Милле, Ван-Гоге, Федотове, Врубеле.
К самым большим удачам Долгополова принадлежат его рассказы (цикл «Шедевры») о трех портретах, написанных в разное время очень разными художниками, но едиными в своей проникновенности во внутренний мир модели. Это портрет довольно еще молодого черноволосого Льва Толстого кисти Крамского, портрет зрелого Достоевского, выполненный Перовым, и портрет умирающего Мусоргского, написанный в больнице его другом Репиным.
И. Долгополов подходит к раскрытию «тайны» каждого портрета через взаимоотношения художника с моделью. Крамской, чей незаурядный ум отметила требовательная Софья Андреевна, был одним из самых образованных и глубоко мыслящих художников своего времени. Эти качества определили решение портрета Л. Толстого его самой прекрасной и могучей поры, когда тот обрел твердое жизнепонимание — веру, создал свое величайшее творение «Войну и мир» и с особо пронзительной силой вглядывался в окружающее, в человека, стремясь к разгадке сокровеннейшего в нем.
В работе Перова над портретом Ф. Достоевского (несомненно, высшим достижением мастера) замечательно то, как большой художник, высоконравственный человек приобщался к духу грозной во всеведении модели и как пугавшая художника проникновенность обратным движением сообщилась портрету с его устремленным к последним тайнам взглядом. Эта работа была огромным душевным переживанием для самого Перова, но он устоял и создал свой шедевр.
Совсем в другом ключе решен необычайный для Репина и по краскам, и по манере портрет Мусоргского, которого художник писал, опережая смерть. Они были друзьями и сподвижниками в служении русскому народному началу в искусстве. Мусоргский создал величайшую национальную оперу «Борис Годунов», а Репин в «Крестном ходе»— незабываемый и многогранный образ простого русского народа. И хотя Мусоргский считал Репина коренником, а себя пристяжной, сам художник, похоже, думал обратное. И это отразилось в его скорбном и глубоком портрете. Изжившее себя, бледное лицо Мусоргского прекрасно последним истаивающим светом беззащитных и мудрых глаз. Говорят, что в каждом талантливом портрете запечатлена не только модель, но и сам автор. Портрет Мусоргского — это портрет и репинской боли, репинской невосполнимой утраты.
Наблюдательность, тонкость и глубину обнаруживает Игорь Долгополов и в «прочтении» многих других произведений портретной и пейзажной живописи: ну, хотя бы «Девушка, освещенная солнцем» В. Серова, саврасовские грачи, «Февральская лазурь» и «Мартовский снег» Игоря Грабаря, бурделевский «Родэн», кустодиевская «Красавица», «Репетиция» Дега. Но основная цель Долгополова — отталкиваясь от одной или нескольких характерных работ мастера, создать объемный портрет самого творца, определить его место и значение в национальном и мировом искусстве, проследить закономерность личной и творческой судьбы.
И вот тут сталкиваешься с горькой закономерностью: как редко в старину задавались судьбы художников, как редко выпадало им прижизненное признание с сопутствующим житейским и рабочим комфортом. Вечный скиталец Леонардо; Рембрандт, похороненный Христа ради; ослепший бедняк Домье; Жерико, погребенный «как самый бедный человек во Франции», не признанный и забытый еще при жизни, а прожил он всего тридцать два года; окруженные долгим холодом непризнания Ренуар и Дега и признанный лишь перед смертью Сезанн; Павел Федотов, окончивший жизнь в сумасшедшем доме; академик Саврасов — ночлежник Хитрова рынка, душевнобольной Врубель… Поистине вспомнишь слова Александрова из «Живого трупа»: человечество не умеет ценить своих гениев. К этому следует добавить: и узнавать их. Невозможно постигнуть, как люди жили рядом с Рембрандтом и позволяли ему гибнуть в нищете. Разве они не видели его полотен? Видели, но оставались холодны. Они рукоплескали поначалу, когда творчество его было юным и радостным, когда он полной чашей пил вино и обнимал Саскию, но отвернулись, когда пришла пора его зрелости и неприкрашенная правда, высокий трагизм окрасили творчество мастера в глубокие и мрачные рембрандтовские тона, иными словами, когда он стал самим собой. Но это явление еще можно как-то понять — не простить, тем более что рядом сверкал один из величайших баловней судьбы — Рубенс, являвший полную противоположность Рембрандту своей солнечной палитрой, праздничным жизнелюбием, плотским избытком. Но отчего же так долго не отзывались современники ясному и убедительному Эдуарду Манэ, щедрому и яркому Клоду Моне, гениальному Ван-Гогу, остались слепы к Сислею (и прозрели лишь после смерти мастера), ворчали на Кустодиева, возжегшего такой яркий и веселый костер, о каком не грезила русская живопись?