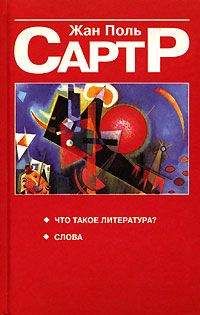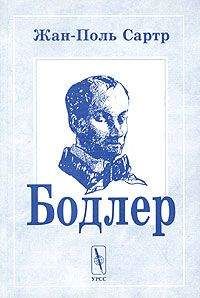И тем не менее, в этой картине сказано нечто такое, чего нельзя осознать до конца. Этот смысл потребовал бы бесконечного количества слов. Странные долговязые Арлекины великого Пикассо полны смысла, который в принципе не может быть расшифрован. Он неотделим от их худобы, гибкости, линялых трико, разукрашенных цветными ромбиками. Здесь эмоция обрела плоть, плоть выпила ее, как пьяница пьет дешевый портвейн. Здесь мы видим неузнаваемую, погибшую эмоцию, чужую для самой себя, четвертованную на плоскости холста. И все-таки она присутствует в картине.
Нет сомнений, что жалость или гнев могут породить совершенно другие объекты, но эти чувства точно так же погрязнут в них, утратят имя – останутся только вещи, в которых иногда смутно просвечивает душа. Значения не изображают красками, их не вкладывают в мелодию. Кто же осмелится в таком случае требовать от художника или музыканта ангажированности?
Со значениями работает писатель. Но и тут желательно различать: мир знаков – это проза, поэзия же находится там же, где и живопись, скульптура и музыка. Порой считают, что я не люблю поэзию, в доказательство приводят то, что в "Тан модерн" публикуется очень мало стихов. Напротив, это подтверждает, что мы ее любим. Чтобы поверить нам, достаточно взглянуть на современную поэтическую продукцию. "Во всяком случае, – торжествующе утверждают критики, – вы и подумать не можете о том, чтобы ее ангажировать".
А почему я должен этого хотеть? Только потому, что она, как и проза, пользуется словами? Но она делает это иначе – не она использует слова, а, вернее, она им служит.
Поэты – люди, которые не хотят использовать язык. Происходит это потому, что в языке и через язык, понимаемый как некий инструмент, происходят поиски истины. Нельзя думать, что поэты имеют целью выделить истинное или выставить его на обозрение. Не думают они и называть мир – и поэтому ничего не называют, ибо название подразумевает непрерывную жертву имени названному объекту. Пользуясь гегелевским языком, имя обнаруживает свою несущественность перед лицом вещи, которая существенна. Нельзя сказать, что поэты говорят, но они и не молчат, тут нечто другое. Порой говорят, что они хотят убить речь ненормальными словосочетаниями, но это не так; ибо тогда они оказались бы в утилитарном языке и пользовались единичными группками слов, как, например, "лошадь" и "шоколад", когда они говорят "шоколадная лошадка". Я не говорю о том, что для это необходима прорва времени, нельзя вообразить, что человек может реализовывать утилитарный замысел, смотреть на слова как на свой инструмент и одновременно хотеть лишить их практического значения.
На самом деле поэт одним махом избавляется от языка-инструмента – раз он навсегда избрал поэтическую позицию, в которой он видит слова как вещи, а не как на знаки. Ибо двойной смысл знака предполагает, что можно сколько угодно проникать в него взглядом, как сквозь стекло, чтобы рассмотреть названную вещь, или посмотреть на реальность и принять ее за объект. Говорящий человек находится по ту сторону, рядом с объектом; поэт находится на другой стороне. Для первого объекты будничны, как домашние животные, для второго находятся в состоянии дикости. Для одного они только необходимая условность, инструменты, которые со временем изнашиваются и выбрасываются, когда их нельзя больше использовать, для другого – простые предметы бытия, естественно живущие на земле, как трава и цветы.
Но поэт существует на уровне слов, как художник – на уровне цвета, а музыкант – звука, и это нельзя понимать так, что слова не имеют для него никакого значения. В действительности, значение словам может придать только их речевое единство, без этого они распадутся на отдельные звуки или росчерки пера.
Все дело в том, что смысл тоже становится естественным. Это уже не бесконечно манящая, но недоступная сверхчувственная цель, это просто качество каждого термина, как выражение лица, для передачи печального или веселого смысла звуков и красок. Значение, переданное в слове, поглощенное его звучанием или внешней формой, сконцентрированное, выродившееся, – это тоже вещь, естественная, вечная. Для поэта язык сродни структуре внешнего мира. Говорящего человека язык ставит в ситуацию, перевернутую словами: они – продолжение его чувств, его щупальца, его антенны, его очки; он руководит ими изнутри, чувствует их, как свое тело, он, не замечая этого, окружен словесным телом, которое увеличивает его влияние на мир.
Поэт существует вне языка, он воспринимает слова с изнанки, будто не посторонний для рода человеческого, и, придя к людям, сразу натыкается на слово, как на барьер. Но он не стремится сразу узнать вещи по их именам, он как будто сначала вступает с ними в бессловесный контакт, а затем, обернувшись к другим вещам, которыми для него являются слова, трогая их, щупая, вдруг видит в них слабое ясное свечение и некое родство с землей, небом, водой и всеми созданиями. Не используя слово как знак определенного аспекта мира, он находит в слове образ одного из этих аспектов. И словесный образ, который он избирает за его родство с вербой или ясенем, – не всегда обязательно то слово, которым мы пользуемся, чтобы назвать эти объекты. Поскольку он находится внутри, слова для него не указатели, следуя которым он выбирается из своего "я" в гущу вещей, а ловушка для ускользающей реальности. Проще говоря, для поэта язык в целом – это Зерцало мира. Вот здесь, во внутренней структуре слова, происходят важные изменения. Его звучание, длительность, мужское или женское окончание, его написание создает его лицо, плоть, которые не выражают, а, скорее, изображают нам его смысл. И наоборот, когда значение воплощено в жизнь, плотская сторона слова отражается в нем, и этот смысл, в свою очередь, существует как образ словесной плоти. И как его символ, ибо значение утратило свой приоритет. Учитывая, что слова, как и явления природы, нерукотворны, поэт точно не знает, существуют ли они для последних, или все наоборот.
Вот так между словом и вещью, которую оно называет, возникает двойная и противоречивая связь магического смысла и значения. Принимая во внимание, что поэт не использует слово, он не выбирает между разными сторонами, и в каждой он видит не обособленную функцию, а материальное свойство, опирающееся на другие аспекты слова. Так, только через поэтическое отношение к миру, он воплощает в жизнь метафоры, о каких мечтал Пикассо, когда хотел изобразить спичечный коробок, который стал бы летучей мышью, оставаясь спичечным коробком.
Флоренция – это сразу и город, и цветок, и женщина. Это город-цветок, и город-женщина, и девушка-цветок, все одновременно. Возникший так необычный предмет, который обладает, как кажется, текучим блеском реки, нежной и теплой рыжеватостью золота, и, наконец, увеличив до бесконечности сопротивление через долгое ослабление немого скромно отступает, проявляя свой сдержанный пыл. Это обогащается скрытым влиянием фактов собственной жизни. Для меня Флоренция – это тоже женщина. Это американская актриса, игравшая в немых фильмах моего детства. Я ее совсем забыл, помню только, что она была длинная, словно бальная перчатка, всегда чуть томная и неизменно целомудренная. Всегда замужняя и непонятая женщина. Я ее любил, и звали ее Флоранс. Если прозаик вырывает из себя слово и кидает его в гущу мира, то поэту оно возвращает, подобно зеркалу, его собственное изображение. Именно этим оправдывается двойная задача, избранная для себя Лейрисом, который в своем "Словнике" хочет дать некоторым словам поэтическое определение. Это значит такое, которое само по себе станет объединением противоречащих друг другу звучащего тела и говорящей души. С другой стороны, он, в еще не изданном труде, кидается на поиски утраченного времени, с помощью слов, которые, как он думает, несут максимальную эмоциональную нагрузку. Короче, слово поэта – это микрокосм.
Кризис языка, произошедший в начале XX века, это кризис поэтический. Независимо от его социальных и исторических причин, он проявился приступами обезличенности писателя перед лицом слов. Писатель не мог теперь использовать слова. Следуя пресловутой формуле Бергсона, признавал их только наполовину; он приближался к ним с очень плодотворным чувством чуждости. Они уже не принадлежали ему, не были им. Но в этих посторонних зеркалах можно было увидеть небо, землю, его собственную жизнь. Наконец, они превращались в вещи, сами вещи или, вернее, черной сутью вещей. Когда поэт объединяет в один несколько таких микрокосмов, с ним происходит то же, что с художником, когда тот перемешивает краски на холсте. Можно подумать, что он собирает фразу, но это не так, на самом деле он создает объект. Слова-вещи объединяются через магические ассоциации соответствия и несоответствия, подобно цветам и звукам. Они притягивают и отталкивают друг друга, они сжигают себя. Их объединение является настоящим поэтическим единством, которое есть фраза-объект. Гораздо чаще поэт сначала формирует в уме схему фразы, а слова находятся потом. Эта схема совсем не то, что обычно понимается под словесной схемой. Она не создает конструкцию значения, а просто приближается к творческому замыслу, через который Пикассо ощущает в пространстве, еще не взявшись за кисть, очертания той вещи, которая будет клоуном или Арлекином.