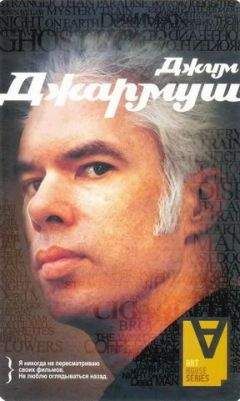Задолго до того, как Джим Джармуш познакомился с неподражаемыми Джоном Лури и Томом Уэйтсом, с великолепным Роберто Бениньи и сиятельной Николеттой Браски, до того, как он оркестровал этот замечательный ансамбль, стал проводником этих талантов к зрителям и скромным штурманом фильма «Вне закона»; задолго до того, как он полюбил их и провел немало времени в размышлениях о том, что им и ему нужно, дабы работа над фильмом — процесс куда более важный, чем конечный продукт, — была успешной; задолго до того, как он, безвестным двадцатилетним юношей, постигал в Париже кинематограф, а на жизнь зарабатывал тем, что в фургоне развозил покупателям картины вместе с напарником, крепким парнем из Чикаго, который в свое время водил такой же фургончик, правда с пивом, и к теперешнему грузу относился с ничуть не большим уважением; задолго до того, как в тринадцать лет он вдруг понял, что духовная составляющая религии — это всего лишь заметки на полях; задолго до того, как он встретил Годара — тот ел итальянское мороженое — и вместо двухсот вопросов, которые он собирался задать великому мастеру, смог только пробормотать: «Какой сорт?» — прежде чем все это произошло, Джим Джармуш жил в Акроне и наблюдал, как живут другие.
Его бабушка говорила: «Когда ты вырастешь, я подарю тебе свои переводы Пруста». У бабушки был альбом с фотографиями его матери, снятыми до замужества, когда она работала журналисткой в «Акрон бикон джорнэл»: на снимках его мать, интересная молодая женшина, запечатлена вместе с Джинджер Роджерс и Роем Роджерсом, вот она с блокнотом в руках берет интервью у кинозвезд, вот готовит репортаж о свадьбе Хамфри Богарта и Лорен Бэкол. Отец Джармуша был волевым человеком, работал в бизнесе. Дед оставил семью, и все женщины в доме — мать, сестра — знают почему. А его отец, младший брат и он сам ничего об этом не знают. Такая женская тайна; конечно, ее надо уважать, но в наши дни это смешно, даже как-то странно. Он то ли эмигрировал, то ли умер — непонятно.
Что можно было увидеть тогда в Акроне? Соседей, занятых повседневной работой, полногрудых женщин, одетых по моде пятидесятых годов, а раз в целую вечность на шоссе можно было встретить самую шикарную вещь на свете: розовый автомобиль. Мать посадила у них во дворе сливу, айву, грушу, ореховое дерево, катальпу, вишню. Она любила все необычное. У нее были абсолютно седые волосы, так что ее всегда было видно издалека. К ней частенько приходили студенты из Кентского университета, в белых лабораторных халатах (они изучали ботанику), толпились около какого-нибудь дерева и заявляли: «Это не дерево, это куст». Иногда заходил сосед и каждый раз бубнил вполголоса: «Из этих красных маков можно делать опиум». Эти повторяющиеся фразы запечатлелись в памяти, как живые, — как будто кто-то так и продолжает их твердить: «Это не дерево. Это куст».
Для Джармуша было большой неожиданностью получить миллион долларов за права на одну только англоязычную версию своего фильма, удостоиться одобрительных отзывов Куросавы и открыть Нью-Йоркский кинофестиваль своей второй черно-белой картиной, права на которую принадлежат ему самому. Хотя поначалу Джим не знал, как будет развиваться его карьера, у него, как у любого подростка, всегда была уверенность, что он не останется жить в Акроне. Там, во дворе его родного дома, росло неизвестное науке дерево, и колибри слетались на волосы его матери, словно на экзотический цветок. Он был ребенком, важные вещи его не касались, он не владел ситуацией.
Когда месяц назад Джармуш отправился в родной город навестить родителей, он был искренне удивлен, когда они сказали, что не видели его два года. Все это время он был полностью поглощен съемкой фильмов на тему «путешествуем втроем».
— Мне нравится состояние оторванности от своего места, — говорит Джармуш. — Я могу спать где угодно... Но больше всего мне нравится прилечь на полчасика вечером, когда солнце садится, и прислушиваться к звукам вокруг. Кажется, будто слушаешь музыку. Ты слышишь близкие и отдаленные звуки, а иногда — диалог на незнакомом тебе языке, и это прекрасно. Мне это нравится.
Я говорю ему, что совсем недавно поняла: мне нравятся первые мгновения, когда просыпаешься не дома и не можешь понять, где находишься. Ты думаешь: «Где я? В гостинице?»
Жаль, что это состояние так быстро проходит, — замечает Джим.
Интервью подходит к концу. Напоследок мы с воодушевлением обсуждаем традиционную тему — современное состояние кинематографа.
Джим:
Публика — я имею в виду, люди — они не должны... неужели они настолько глупы, что не понимают: их постоянно заставляют копаться в дерьме. Возьмите секс-комедии для подростков: сколько их нужно посмотреть, чтобы понять, что они ничем друг от друга не отличаются? Я говорю, что людям нравятся шаблоны, нравится, когда фильмы соответствуют их ожиданиям.
Люди любят шаблоны, заявляю я, мы любим, чтобы наши ожидания оправдывались.
Джим (с неподдельным интересом):
Потому что их приучили мыслить таким образом?
Не чувствуя подвоха, я начинаю многословно и очень эмоционально расписывать, какое убогое существование влачат большинство людей: все время у телевизора, едят черт знает что...
Неожиданно Джармуш издает сдавленный смешок и бросает на меня веселый, лукавый взгляд.
Да, жизнь ужасна, — говорит он и широко ухмыляется. — Жизнь — отстой.
Утром следующего дня я ехала по шоссе, направляясь к Кейп-Коду. На стоянках немало семейств в полном составе суетились вокруг своих машин. Многие пребывали в таком радостном умиротворении, как будто фаст-фуд «Рой Роджерс» составлял единственную цель их путешествия. Я подумала, не позвонить ли Джиму, чтобы поделиться с ним приятными впечатлениями от поездки, но, когда я добралась до Кейп-Кода, Джим сам позвонил мне.
Извините, что побеспокоил, — начал он в прошедшем времени, чем немало меня озадачил. — Я все думаю о втором дне интервью, — продолжил он. — Я как-то не собрался. Я был неразговорчив. В первый день все прошло гладко, потому что я страшно обрадовался тому, что наконец-то меня спрашивают не только о том, сколько дублей я сделал и сколько это стоило. А во второй день я не сконцентрировался и теперь понимаю, что не должен был говорить некоторых вещей. Я чувствую, что кое-что не стоит выносить на публику.
Что, например? — спрашиваю я.
Например, где я живу, — говорит он, — или то, о чем мы с вами говорили в первый день, — это все очень личные вещи, или какие-то подробности о моей семье, еще — мои политические симпатии, отношение к палестинцам, собираюсь ли я заводить детей, что я думаю о наркотиках, о психотерапии, потом еще мои длинные рассуждения о мужчинах и женщинах...
Но ведь все это — очень важные вещи, говорю я. Это самое главное! Если все это вырезать, то никакой статьи не получится.
Да, я понимаю, — соглашается Джармуш. — Для вас это лишь материал для статьи. А для меня... Понимаете, я тогда просто не включился в беседу. Вот, например: помните, вы спросили меня про Мамета, а я стал рассказывать вам про его пьесу? Так вот, эту пьесу написал не он, а Дэвид Рейб!.. Знаете, я очень закрытый человек, и мне становится не по себе, когда я думаю о том, что все мои знакомые в Нью-Йорке прочтут эту статью. Мне просто... тяжело.
Но вы же не сможете отказаться от того, что уже рассказали в интервью другим журналистам, — обиженно заявляю я.
Да, я знаю.
Я расшифрую запись и посмотрю, что можно сделать. Я вам перезвоню.
В трубке я слышу мрачный голос Джима:
Не стоило мне вам звонить... Вообще, все это очень сбивает: стремление быть искренним, этот интерес к моей жизни. Я думал, что мы просто болтаем. Бла-бла-бла. Я рассказываю о себе, об этих дурацких фильмах. Это как-то подстегивает, кажется, что вот люди занимаются делом. Но у журналистики свои законы. В одной рецензии я прочел буквально следующее: «Джим Джармуш — любимец интеллектуалов; в этом отношении они напоминают слепого и глухую, у которых родился сын-идиот, а они на каждом углу кричат, что он вундеркинд!» И я был счастлив. У меня словно камень с души упал, когда я прочитал эту рецензию.
Что вы собираетесь делать дальше?
Не знаю. Понятия не имею. Меня, наверное, съедят живьем. Мне наплевать, что люди хотят от меня и как я должен теперь строить свою карьеру. Мне все равно. В конце концов, это меня не касается.
Вы просто хотите снимать кино.
Да, и у меня много планов. .
Так что вот одна мысль, включить которую в статью можно:
В фильме «Вне закона» для меня очень важны два женских персонажа, потому что они как бы оттеняют нерешительность персонажей-мужчин... И... знаете, мне очень нравятся женщины. Мне кажется, я очень многому научился у женщин, с которыми был близок, — это касается эмоций, воображения, каких-то таких вещей, которые никогда не открылись бы мне, общайся я только с мужчинами. Не знаю, как это лучше объяснить. Но я действительно... женщины... для меня очень важно общение с женщинами. Я просто- когда я в мужской компании, то я чувствую себя...однобоким. Как будто я... даже не знаю... я просто... — Джим замолкает, затем безнадежно роняет: — Я совсем не умею говорить.