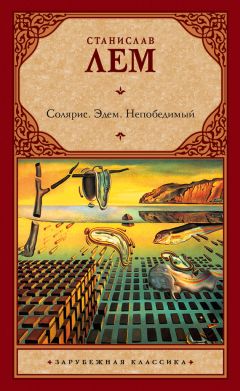Собственно говоря, действующим постепенно, скрытым и потому в повседневности незаметным энтропийным тенденциям мира Дик придает лишь монументальный размах, полное опасной (но и чудовищно комичной) экспрессии ускорение, задающее этой уничтожающей игре темп, который нарастает всегда в ходе действия, а также вводит достижения цивилизации (галлюциногенные, телепатические технологии и т.п.). Если принять во внимание, как у нас уже поколебалась вера в совершенство как добродетель инструментального прогресса, идея Дика – такое сращение природы с культурой, фундамента с инструментом, которое набирает стремительность злокачественной опухоли – уже не кажется чистой фантасмагорией.
В основе миров Дика могло бы почивать видение Космоса действительно безнамеренного, то есть безличностного, который своим жителям не желает ни добра, ни зла, но, однако, пристрастного, ибо обладающего свойствами ловушки, расставленной на практический разум – ловушки, позволяющей овладеть своей материей, но так, что это становится пирровой победой. Речь идет о ловушке с задержкой, сразу осыпающей прометеев милостями, а уже на недосягаемой высоте, откуда нет отхода, захлопывающей их в себе, чтобы не знали даже, следует ли их поражение из неудачи, или же оно было неизбежно. Поражение цивилизации обычно ложно и узко отождествляется с регрессом в какой-то минувшей фазе истории, хотя бы пещерной или животной, но концепция, которую я имею в виду, касается развития, уродствующего на высотах, неспособного уже даже апеллировать к чему-либо естественному, поскольку речь идет о понятии анахроническом. Ведь может быть так, что сила, которую дает все более глубокое овладение явлениями, является карикатурой инструментального идеала, и вместе с тем нет на этом пути другого отступления, кроме как через вершину, которую надо достичь не по воле, а по инертности движения цивилизации. Общие фразы такой философии природы можно наполнять разнообразно воображаемыми содержаниями. Трудно сказать, это ли именно видение, трясина знания преследует Дика, ибо он слишком успешно распутал свои хаосы, а еще утопил их в бреду. Поэтому неизвестно, что в них является плодом пущенных без присмотра или канцеризации технологий, а что – видением разума, параноизированного давлением существования.
Дик не является проводником по своим мирам, скорее он создает впечатление заблудившегося в них, его романы движутся неровно, галлюцинационными рывками, зараженные китчем и мелодраматичностью, которые превращают мистерию в мистификацию, а драму в авантюру. Вопреки этим промахам они кажутся правдонесущими, насколько правдива мысль, что прогресс цивилизации не гарантирует жизненного прогресса и что историческая связь обоих может быть переменной, независимой от человека. Ведь эти полные промахов романы являются визионерскими, потому что позволяют вложить в лозунг «шок будущего» содержание конкретных переживаний (разумеется, не в смысле какого-либо прогноза, а только поразительного Отличия).
Мы набросали миросозидательную методику Дика, во многом близкую рискованным сделкам, соединяющую такие категории, которые здравый рассудок велит держать все время раздельно. Миросозидание, вырастающее из пня фантастики, называемой научной, несет на себе ее пятна – как производные научности, а также инструментализма. Science fiction прошла, короче говоря, путь от собственного выращивания до малоценной гибридизации в результате ограниченного отбора в новых экзогамных связях. Она перешла именно от любительства болтающих в самонадеянности инженеров через наивные попытки утопии и схематизм космически раздуваемых мифов американской карьеры до сегодняшнего сказкосочинительства, сложенного из анахроничных и инфантильно ожесточенных снов о могуществе, причем небылицы эти в корне интеллектуально бесплодны, погружены в грязные воды экспрессионизма или других парнасизмов, а поверху инкрустированы совместно придуманной псевдонаучной опасностью. Трудно тогда сказать, что лучше – старое собственное разведение или сегодняшняя претенциозность. Хотя, однако, связи SF со сферой познания всегда были сомнительны и заражены фарсовыми недоразумениями, ведь она хотела, будучи глухой, вслушиваться в науку, что в конце концов втянуло ее в проблематику будущего, правда ущербно, но одно она поняла хорошо: что технологический фактор уже не удалить из цивилизации как сросшийся с ней намертво. Действительно, дегустирующие способы, которые этот факт раскрывают, скорее не благоприятствуют его доказательству, но роль его глашатая сегодня на себя просто взял мир, в котором мы живем. Если (кощунствую) обойти художественные вопросы, эта ориентация SF остается ее завоеванием, потому что вторжение в культуру становящихся самостоятельными инструментов будет продолжаться, и литературная тема, избавленная от технологического фактора, раньше или позже окажется темой чисто сказочной.
Зато та миросозидательная тенденция, начало которой положил Кафка, находя продолжателей в антиромане и родственных типах воплощения, взяла и словно навсегда разошлась с такой позицией. Это вытекает не только из радикального отличия интересов или мировоззрений писателей в обеих сферах, но и изначального, по крайней мере очень сильного отличия поставленной задачи созидания. Миросозидание, предшественником которого был Кафка, строит автономную действительность как необходимую предпосылку для высказывания. Мир этой фикции не тождествен действительности даже во фрагментарных претензиях, он также не является чисто духовным в своей субстанции, словно сон или бред, и именно его онтичный статус можно определить, прибегая только к информационной номенклатуре: речь идет о подготовке такой версии бытия, которая в целом будет представлять сигнализационный аппарат, настроенный на определенную пересылку – аппарат, необходимый потому, что никаким другим, менее жизненно независимым средством, передать сообщение не удастся. Таким образом, это мир значащий, но не обязательно аллегорическим образом, ибо над миром аллегории простирается, словно небо над землей, система ее адресов в реальность; в идеальном случае аллегория имеет столь совершенно действующий ключ, как ключ к шифру, и, применяя его, можно соотнести все существенные элементы ее фикции – соответствующие вещи, явления или категории. Тем самым, само правило этой раздельности (земли – аллегорического произведения и неба – созвездия его адресов) подлежит благодаря Кафке отмене. Иногда говорится, что этот порядок миросозидания делает возможным конструирование модельных ситуаций, что это почти как с экспериментом, которому необходимы исключительные условия полной изоляции, своеобразная искусственность почвы, а также береговых и пограничных условий. Можно также сказать, что речь идет о мире, созданном на один раз для того, и только для того, чтобы в нем произошло нечто такое, что это событие, вместе с этим миром, будет выполнять функцию сообщения. Однако можно также утверждать, что автономия этого воплощения продвинута еще дальше, и не какое-то сообщение – мы имеем перед собой мир, то есть функциональную действительность в состоянии кульминационной независимости. Я повторяю эту последнюю версию, хотя с ней не соглашаюсь, в убеждении, что действительно совершенная независимость, если она достижима, должна равняться полному непониманию, которое перечеркивает смысл начинания.
Раз уж мы более или менее знаем, о чем идет речь в этой эволюционной линии писательства, спросим о том, как в ней действовать. Собственно говоря, я уже писал об этом в эссе, критически представляющем теорию фантастичности Ц. Тодорова, и не хотел бы повторять сказанное там. Только для порядка и абсолютно сжато: прагматика этого воплощения должна иметь в виду одновременно две вещи. Следует убедить читателя в том, что представленный мир не является фрагментом известного ему реального мира, и с этой целью надо последовательно менять ему ориентацию, инерционно тяготеющую, разумеется, к такой однозначности читаемого, которую мы зовем привычностью места и времени. Одновременно средства, выбивающие читателя из привычного, не должны его полностью оглушить и одурманить до такой степени, чтобы он просто потерял самообладание и, разочаровавшись, или отложил книгу, или из-за снобизма слепо доверился экспертам, ручающимся за значение и великолепие произведения. Таким образом, текст действует так, что предоставляет указатели, управляющие потребителем, в разные и несовместимые стороны одновременно. Можно проследить этот прием, например, на «Превращении»[48]. Все начинается с реалистического описания среды, пока герой, Самса, не превращается в жука; если бы речь шла об условности сказочной или научно-фантастической, можно предвосхищать реакцию близких превращенного – ведь они должны оцепенеть, охваченные ужасом, искать помощи (в сказке – у волшебника, в SF – у ученых), но ничего подобного – как видим, за одной «непоследовательностью» (превращение в жука) спешит следующая – «неуместное» поведение окружения. Текст должен, что стоит подчеркнуть, активизировать свою автономию на два фронта: относительно наивного реализма, этого оплота всяческой повседневности, и относительно культурных образцов мифа, сказки, религиозной легенды и т.п.