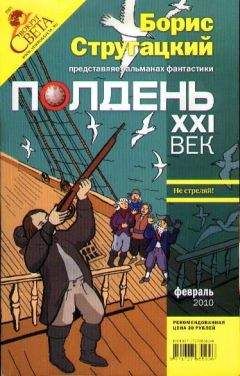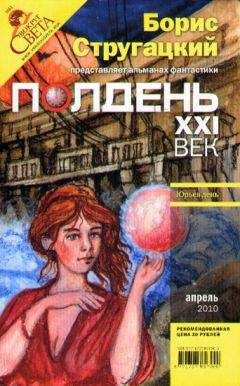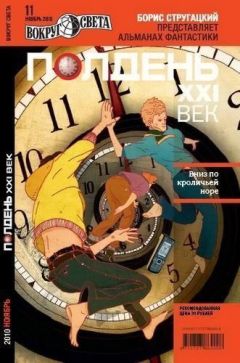Ведь не заметил же ничего отец. Ни тогда, ни позже. Ладно, об этом я и так думаю постоянно. Надо бы прерваться и подумать о работе.
Для начала Ася успокоила Марину — так звали мамашу. Она меня испугалась. Ну да, конечно. Для нее я — полупрозрачная фигура, и это — самое большее, что я могу сделать, для того чтобы она меня хотя бы видела. Тем легче было объяснить ей, чем грозит ее девочке долгое пребывание в метро. Вернее, половине ее девочки. И, судя по внешности оставшейся половины, та, утерянная, была, простите за неточность, большей. И лучшей.
А еще я понял, что мне не нравится эта мамаша. Вернее, не она сама, а ее поведение и мотивация. А уж когда я взял ее за руку…
* * *
Когда ЭТО прикоснулось к ней, Марина вздрогнула и внутренне вся сжалась. Как ни старалась успокоить ее девочка-оператор, как ни старалась помочь расслабиться — ничего не получилось. Ну не укладывалось у Марины в голове, что ЭТО живое. И уж тем более не укладывалось, что ЭТО — безопасное.
Машенька отреагировала на его прикосновение неадекватно. То есть — никак. Хотя, по представлению Марины, должна была отстраниться от этих холодных рук. И заплакать. А она молча сидела на коленях матери и лишь раз в две-три минуты покачивалась из стороны в сторону, как делала это уже четвертые сутки.
И вот теперь Марине стало действительно страшно.
* * *
Нет, на самом деле такого быть не могло. Не могло, и все. Но было. Ей же абсолютно наплевать на дочь. Внешне она выдавала совершенно стандартные реакции — беспокойство, смятение души и прочий необходимый, по ее мнению, эмоциональный набор. Даже сюда приперлась. А на самом деле… Ситуация, до боли мне знакомая.
В общем-то, теперь понятно, почему оболочка девочки так сопротивляется тому, чтобы ее извлекли из метро. Она же чувствует, что матери своей не нужна. И не просто — чувствует. Так оно и есть, увы.
А матери страшно. Она отдает себе отчет в том, что не испытывает к дочери никаких теплых чувств. Да еще и винит ребенка в том, что из-за него из семьи ушел тот самый Эдик.
Но есть же еще и чувство долга, в конце концов! Она считает, что обязана вырастить дочь.
Потому она и оставила девочку себе и все родительские обязанности выполняла «на отлично». Вот только дочку она НЕ ЛЮБИЛА. И, как я понял, чуть приглядевшись, изначально ребенка не хотела.
И то существо, что сейчас сидело у нее на коленях, было максимумом того, что хоть как-то привязано к матери. Безэмоциональная, холодная и неинтересная кукла.
А все остальное, то, что составляло основу личности девочки, будет сегодня в ключевом потоке в восемнадцать тридцать две. И я бы должен сделать все возможное, чтобы все трое там встретились…
Но мне почему-то этого совсем не хочется.
* * *
— Что случилось? — Ася протянула мне чашку — Ты так на нее смотрел…
— Она ей не мать. — Я взял чашку как всегда обеими руками и принюхался. Мята. Просто мята. — Совершенно, абсолютно не мать.
— To есть как — не мать? — Ася даже отступила на шаг. — Я же проверяла. Девочка ей родная!
— Ась, ну биологически — да, родная. А эмоционально — чужой человек. Мы, конечно, попробуем сегодня в восемнадцать тридцать две все это разрулить. Но я очень сомневаюсь, что у нас что-то получится. Девчонка не пойдет на контакт. Ей такая мать не нужна!
— А вот давай ты за нее решать не будешь! — Ася почти кричала. — Я понимаю, что у тебя свой взгляд!
Если бы она сейчас сказала про то, что я вырос в метро и потому считаю всех в мире родителей более или менее подробными копиями своего равнодушного папаши… Она ведь наверняка об этом подумала. Наверняка. Но не сказала. И я был ей за это благодарен.
— Пойми, Глеб, мы обязаны попробовать!
— Попробовать! — я тоже завелся, что со мной случалось исключительно редко. — А не хочешь ли поприсутствовать?
— Но я же… — Ася растерялась. — Глеб, я же на дежурстве!
— Ты же говорила, что прикрываешь только дневные часы!
— Хорошо! — Ася была просто уверена, что все получится. — Если все получится, ты никогда, никогда больше не заикнешься о том, что не все родители одинаковые!
— Согласен!
Дело в том, что Асины родители, хоть и в разводе, но в дочери оба души не чают. Вот она и обижается на меня за мой постоянный «родительский скепсис».
Наверное, она права.
* * *
Вот ведь как бывает. Человек живет. Живет себе и живет. Как все, не хуже многих. И есть мозги. И есть образование. И есть любимая работа и чуть менее любимая, но все же любимая девушка. А вот не хватает чего-то. Недостает. И жизнь кажется серой и пустой, почти как улица, на которую Глеб смотрел с балкона каждый вечер перед тем, как пойти спать.
Ощущение потери чего-то очень важного преследовало его почти всю сознательную жизнь. Только розовое сопливое детство не было омрачено ничем, кроме неизменного равнодушия отца. Нет, тот выполнял все свои родительские обязанности, кормил, одевал, обувал, изредка даже пытался воспитывать, но в каждом его взгляде, в каждом жесте сквозило: «Ты мне не нужен! Не нужен! Не нужен! Мне не дает наплевать на тебя лишь воспитание и чувство долга». Но это Глеб понял уже потом, войдя в более-менее сознательный возраст…
А тогда… Тогда он просто жил. Гулял с друзьями. Играл в футбол…
Пока однажды ему не приснился сон. Сны посещали Глеба довольно часто, но он никогда их не запоминал. А этот запомнил. И когда сон повторился, был очень удивлен. Сон повторялся часто — не настолько, конечно, чтобы считаться полноценным кошмаром, но и не настолько редко, чтобы его можно было игнорировать. Сон был странный. Связанный с метро.
Дело в том, что, сколько себя помнил, Глеб не переносил метро. Когда-то давно, очень давно, отец потерял его в вагоне. Забыл. Но потом вернулся. Глеб не помнил, чтобы тогда успел сильно испугаться, но метро с тех пор не переносил совсем. До такой степени, что все свои поездки планировал, опираясь исключительно на наземный общественный транспорт. Игнорируя насмешки друзей и коллег, он упрямо отказывался спускаться под землю. И лишь в самом крайнем случае, когда избежать поездки в метро было совсем уж невозможно, он, бледный, потерянный, на негнущихся ногах направлялся к светящейся букве «М» и долго еще не мог прийти в себя, оказавшись снова на поверхности. Со времени появления машины, Глеб начал дышать свободнее. Но чувство потери чего-то важного не покидало его все равно.
Психиатр, к которому Глеба затащила-таки девушка, долго и глубокомысленно качал головой, приговаривая «угу, угу, угу», и, задав Глебу несколько десятков вопросов, заявил, что корни его беспокойства лежат где-то глубоко в детстве, и что выяснить их точное происхождение поможет лишь сеанс глубокого гипноза совсем за отдельные деньги. Глеб зарабатывал тогда достаточно, чтобы оплатить предстоящую процедуру, но, несмотря на усиленные уговоры со стороны пассии, в назначенное время на сеанс не явился. Просто-напросто понял: он не хочет, чтобы посторонний человек, пусть даже и с медицинским дипломом, копался в его памяти. О чем пассии и заявил. А она заявила в ответ, что Глеб параноик и жмот и что она больше не хочет иметь с ним, Глебом, ничего общего. И ушла, хлопнув дверью. Глеб спросил себя, а стоит ли бежать следом, посылать цветы, пытаться восстановить отношения? И вдруг с поразившим его самого спокойствием понял: не стоит. Не больно-то и хотелось, не сильно-то и сложилось. Пусть ее…
И тут же, как-то очень мгновенно и крепко осознал, что пустота в душе больше не отпустит его, пока он не совершит какие-то действия. Вот только знать бы, какие именно. Глеб чувствовал, что даже заведи он сейчас несколько новых романов, пустота не отступит. Нужно было подумать.
* * *
Станция метро. Час пик. Толпа. Толпа в проходе, между колоннами, толпа на перроне. И поезда, стальные подземные червяки, шипящие тормозами и дверьми, лязгающие сцепкой, ярко освещенные изнутри и снаружи. Восемнадцать тридцать.
Тоннель темен и пуст. Но это только кажется. Вот сейчас его бархатную черноту прорежет блик на рельсе, лизнет стенки из-за поворота язык бело-желтого света, а спустя пару мгновений покажутся огненные глаза состава. И встрепенется, придвинется к ограничительной линии толпа. Всем хочется уехать именно сейчас, каждый готов горло перегрызть соседу, держа скрещенные пальцы на то, чтобы только дверь в вагон остановилась именно напротив него. Но дверь всегда ускользает…
Состав свистит тормозами, гул колес меняет тембр. Вагоны катятся все медленнее, медленнее и, наконец, замирают. Зашипев дверьми, вагон исторгает из себя толпу выходящих пассажиров. Они с презрением поглядывают на столпившихся у дверей входящих, забывая, как сами полчаса назад стояли вот так же на платформе, надеясь, что желанная дверь в этот раз не подведет и что им, им, именно им, а не соседям, посчастливится первыми штурмовать переполненный вагон.