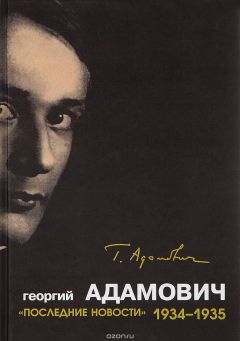Надо оговориться: я вовсе не поклонник «революционных бурь и мятежей», воспетых когда-то Пильняком, или малограмотного энтузиазма, которым проникнут гладковский «Цемент», или планетарных вдохновений пролеткультовской поэзии. Скажу больше: мне и блоковские «Двенадцать» теперь, на расстоянии пятнадцати лет, представляются вещью поверхностно-значительной, обманчиво-глубокой и очень показательной для того душевного омертвения, которое сам Блок с гениальной выразительностью запечатлел в стихах «Седого утра»: «пробудился — тридцать лет, хвать похвать — а сердца нет». («Горький пустячок» — верно и метко тогда же сказал о «Двенадцати» критик злой, бессовестный и беспринципный, но умный: Сергей Бобров.) Но этот пафос можно было понять, и в искренность его можно было верить. Литература могла и не нравиться, но то, что было за ней, достойно было внимания, — и во всяком случае могло оказаться двигателем литературы настоящей и живой. Человек и мир стояли друг перед другом, — и человек пытался найти слова, в которых этот внезапно «взвихренный», исказившийся, возмутившийся мир был бы отражен… В первое время ему в этом деле оставляли свободу. Правителям России было не до того, чтобы заниматься «пишущей братией». Конечно, уже и тогда на партийных верхах признавалось, что это тоже «фронт», но были в те годы фронты и поважнее, — и литература находилась в положении беспризорном, что и шло ей на пользу. Потом фронты сократились, началось «строительство», появился «план» — и мало-помалу в этот план была включена и литература. Подчеркиваю: мало-помалу. Едва ли у партии не хватило решительности, чтобы сразу превратить литературу в покорную исполнительницу правительственного предначертания: вернее, партия сама не сразу догадалась, что это возможно, что это «пройдет» — и на первых порах поэтому с известной терпимостью отнеслась к разговорам о творческой свободе и о праве писателя на мысль. Изменение отношения сказалось с полной резкостью только вместе с исчезновением старых, еще «интеллигентских» традиций и водворения на их место новейших казарменных принципов. То, что трудно назвать иначе как ликвидацией литературы, началось с отставкой Луначарского. Еще несколько лет тому назад можно было с уверенностью утверждать, что литература в России жива, — и надеяться, что она не задохнется и в будущем. Сейчас никто не решится на такое утверждение, иначе как с какими-либо предвзятыми посторонними целями. Если это не смерть, то это — глубокий обморок, летаргический сон.
Тем этих мне не раз уже приходилось касаться, — и я не буду повторять всего того, о чем уже писал. В двух словах, самое существенное: жесточайшая сверх-бенкендорфовская цензура не может «доканать» литературы, пока остается именно цензурой, — т. е. органом запретительным, ограничивающим. Но сразу она становится смертоносной, едва только от ограничения переходит к внушению. А в России именно это и произошло. Писателю уже не говорят: «не пиши об этом», ему велят: «пиши о том то…». С точки зрения плана, проникающего во все отрасли жизни и все регулирующего, это логично и последовательно: в едином механизме не должно быть ни одного винтика или колесика, вертящегося самостоятельно, без всякой связи с другими винтиками и колесиками. При стремлении заставить стомиллионный народ иметь одно, твердое, непоколебимое мировоззрение, это неизбежно: нельзя никому позволить фантазировать, — никому, кроме учителя и вождя, все за всех решающего и объясняющего. Но надо в таком случае откровенно признать, что функция творчества у литературы отнята. Слово «творчество» в России осталось, но смысл его потерян. И мы должны помнить, что с нашим понятием «литература» имеет уже мало общего то обслуживание очередных пунктов правительственной программы, которое становится уделом всякого советского литератора, желающего не только писать, но и печататься.
Федин — человек искренний и серьезный, один из тех советских писателей, которым можно верить и доверять. Именно это и привлекательно в нем. Он, может быть, менее даровит, чем, например, Леонов, — но писания его имеют в конце концов больше значения, потому что он их проверяет в глубине сознания и за них принимает ответственность. Помимо того, у Федина есть еще одно редкое и большое достоинство: чувствуется, что он пишет медленно, как бы на каждой странице останавливаясь и думая, внимательно вглядываясь в своих героев, взвешивая малейшее слово… В толпе ремесленников, беззаботно выпускающих с рекордной быстротой свои механические изделия, он выделяется по самому темпераменту своему, как художник.
Тем более тягостно читать «Похищение Европы». Федин в этом романе похож на рыбу на песке:
Возможно биться, нельзя дышать…
Дышать ему, действительно, нечем. Уверенный и тонкий рисунок, острота зрения, словесная находчивость, душевная проницательность, своеобразие повествовательного тона — все ни к чему. Федин знает, что необходимо дать роман, который служил бы какой-нибудь практической цели, роман, в котором ясно было бы, для чего он написан. Для изображения ли «загнивания» западной буржуазии, для характеристики особенностей пролетарского движения или, может быть, для изобличения классовых противоречий континентального общества в период кризиса… Сюжетов, одобренных и рекомендованных к разработке, не очень много. На одном из них остановиться неизбежно. Свобода выражается лишь в праве выбора и в возможности приспособить какую угодно фабулу к заранее установленной тенденции. Писатели покрепче, но грубее, справляются с этой задачей не то что лучше Федина, но как-то менее болезненно и мучительно. Некоторые из них даже входят во вкус работы. Но у Федина — организм хрупкий. По существу, это романист-психолог, которому ближе и понятнее драма человеческого сознания, нежели перипетии стачечного движения в Силезии; по существу, это писатель тихий, узкий, глубокий, писатель, который создан «для четырех стен», а вовсе не для площадей и толп… Но укатали сивку горки, надели и на Федина общий мундир руководителя и заправилы советской литературы.
Естественное возражение: зачем же он пишет, зачем печатает, кто его, грубо говоря, тянет за язык? Ответ на это естественное возражение не так прост, как оно само. Если бы человеческое сознание было так независимо и сильно, как хотелось бы, если бы вообще человек, даже умный, даже зоркий, даже с развитой индивидуальностью, труднее вовлекался в общий поток настроений и суждений окружающей его среды, если бы в нем неодолим был дар сопротивления — пришлось бы, конечно, говорить о скверных сделках с совестью. Но, увы, человек уступчив и податлив. Никого не желая оскорбить, можно все-таки высказать предположение, что среди нас так же много случайных эмигрантов, как в России — случайных советских граждан, хотя ни те, ни другие этой случайности не признают и не замечают. Искренность, страсть, самозабвение входят в игру будто по доброй воле. И человек служит не тому, чему должен был бы служить по всему своему складу, — хотя остается чист и честен.
В чистоте и честности Федина нельзя сомневаться. О, это не какая-нибудь Мариэтта Шагинян, насчет которой происходят разногласия. Федин не «приспосабливается». Но он калечит, обкрадывает, принижает, умаляет, искажает самого себя — из-за априорной веры в ленинскую заповедь, будто «литература есть часть общепролетарского дела» и из-за стремления согласовать расплывчатое это «дело» с тем его воплощением, которое дано сейчас в СССР. Натура Федина глубоко чужда всем советским идеям, всем советским порывам. Никогда бы, кажется, он, как Иван Карамазов, не пожертвовал одной «слезинкой» какого-либо ребенка ради всех будущих гармоний, торжеств и достижений, — а уж какое-либо оправдание «советского опыта» извлечь из созданных им образов невозможно совершенно. Но, вопреки себе, он слагает теперь славословия, хотя они и звучат как «Morituri te salutant!».
Действие «Похищения Европы» происходит за границей: сначала в Норвегии, затем в Голландии и Германии. В центре повествования — путешествующий советский журналист Рогов. Трудно, однако, назвать его героем, так как автор не меньшее внимание уделяет и другим лицам, в частности, Филиппу ван Россуму, богатому голландскому лесопромышленнику. У ван Россума — дела в России, где в качестве его представителя находится его племянник: это дает Федину возможность связать в один узел две фабульные нити, русскую и чужеземную, советскую и буржуазную.
Рогов встречает в Норвегии дочь ван Россума — Елену. Двух-трех слов достаточно, чтобы Рогов почувствовал к ней влечение. Сам не отдавая себе отчета в своих действиях, московский журналист отправляется в Голландию. Но Елену ему видеть больше не суждено. Елена умерла. Зато встречается он с женщиной, странно на нее похожей, — и притом русской. Это жена того ван Россума, который работает в России, — ее зовут Клавдия Андреевна. Нежность Рогова к Елене переходит на нее. Налаживается дружба, начинаются прогулки, беседы, объяснения… А в это время капиталистический мир трещит и разваливается, ван Россум терпит убытки и не знает, где найти выход из положения, шоферы бастуют, рабочие голодают и в уютных гостиных благовоспитанные дамы говорят классово-четкие глупости, меж тем как их мужья тревожно совещаются о средствах борьбы с советским демпингом.