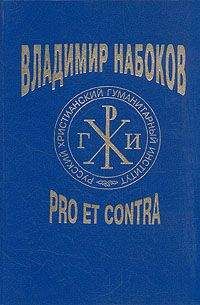На чем именно он стоял, я не мог схватить, но самый факт бросался мне в глаза. Произошло отделение «идеи» от полноты истины, логики – от полноты развития духа. Долголетние претензии философии (и в особенности гегелевской) были отвергнуты[27].
Идея высказывается во всем блеске, но ей не верят, а смотрят, что делает человек, одержимый ею. И по плодам различают их; ибо плод добрый от древа доброго и плод злой от древа злого... Мы не верим Великому инквизитору и верим молчащему Христу – и все идеи Великого инквизитора проваливаются в молчание Христа. Мы не верим убийце – и идеи Раскольникова проваливаются в убогий лепет Сони. На уровне интеллекта инквизитор и убийца остаются правы. Дело не в том, что против них нет доводов. Я придумывал такие доводы, хотя бы против теории Раскольникова. Но Достоевский их не хотел и не дал. Ему хотелось другого – развенчать сам уровень интеллекта, на котором у инквизитора и убийцы всегда есть сильные аргументы.
Мне кажется, первичное открытие было совершено Достоевским на каторге. Скорее всего именно на каторге писатель, мечтательно любивший бедных людей, должен был сознаться себе в решительной неспособности любить человека, народ, ближнего таким, каким этот человек выступал, без всяких прикрас, у него перед глазами, и в то же время еще острее осознать невозможность жить без этой любви.
Во всяком случае, уже в 1854 году, то есть вскоре после освобождения, Достоевский сообщает Фонвизиной свое кредо (впоследствии дважды повторенное: в записных книжках и в «Бесах»): «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа» (т. 28, кн. 1, с. 176). Это очень емкий алогизм, и я далеко не уверен, что понял Достоевского до конца. Прежде всего хочется отметить, что это алогизм, что заветная мысль Достоевского не уместилась в «эвклидовский разум». Достоевский, несомненно, знал слова Христа «Я есмь истина» и, конечно, не собирался глумиться над ними. Шутки над Христом вызывали у Достоевского припадки. Зачем же ему понадобилось абсурдное (для верующего) предположение о Христе вне истины и истине вне Христа? Видимо, иначе он не мог выразить свое какое-то очень глубокое переживание. Здесь перед нами своего рода коан, разгадывать который можно всю жизнь.
Вероятно, в каторжные годы важнее всего было моральное звучание этого коана. Истина – моя неспособность любить ближнего; Христос – любовь, побеждающая, несмотря на эту мою неспособность, и охватывающая меня, хотя я только в какие-то короткие минуты могу отвечать ей. Истина – мое нынешнее состояние, состояние недоразвитка; Христос – это то, что не раскрылось во мне, но что может раскрыться, должно раскрыться. «Сильно развитая личность, – писал Достоевский в «Зимних заметках», – вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, т. е. никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок, один самый тоненький волосок, но который, если попадется под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды...»
Если оборвать цитату на законе природы, то Достоевский выглядит утопическим социалистом, сохранившим и в 1863 году весь жар своей молодости; на самом деле он просто вспоминает молодость, платит минутную дань ее языку – и тут же добавляет замечание, сводящее на нет всю логику утопического социализма; вместо закона природы, к которому тянет нормального человека, вырастает неразрешимая антиномия. Согласитесь, трудно найти человека, у которого не будет никакого, ни малейшего расчета в пользу собственной выгоды. И, таким образом, на утопически социалистическом языке высказывается чисто теологическая мысль: одна капля твари вытесняет всего Бога.
Со скрытым, но, несомненно, бывшим у Достоевского в уме выводом: без лика Христа, без уподобления ему, без совершенного «пре-подобия» – «закон природы», закон гармонии, дремлющий в человеке, никогда не осуществится. А если даже случайно осуществится, то рухнет при первом прикосновении, как во «Сне смешного человека». Таково, по-видимому, первое звучание коана Достоевского.
Ко мне этот коан повернулся прежде всего другой стороной – художественно-познавательной. Подставим вместо истины – «идея», «понятие», «разум», а вместо Христа – «икона», «образ», «искусство». Тогда получим: «образ, икона глубже выражают тайну бытия, чем идея, понятие». Философски такой взгляд вполне возможен, романтики его защищали, и Достоевский был к нему близок. Можно это подтвердить такими словами: «мир красота спасет»; «Шекспир – пророк, открывший нам тайну о душе человеческой»... Все это несколько напоминает замечание Судзуки: «дзэн может обойтись без морали, но не без искусства». Речь здесь идет не об аморализме, а о понимании несовершенства морали, двойственности ее влияния на человека. Всякий закон, запрет, предписание посягает на человеческую свободу и вызывает протест, сопротивление, вызывает желание нарушить закон. И поэтому всякий закон становится источником нарушений закона, источником преступлений, рождает преступные желания, а иногда и действия. Об этом писал еще ап. Павел, противопоставляя закон благодати. Новое у Достоевского (как и в дзэн) – вера в способность искусства преодолеть эту трудность, выразить конкретно-нравственное так, что красота его без насилия покорит сердце.
Таким образом, возникает концепция, которую можно рассматривать как прямую антитезу гегелевской. В самом деле, если истина может быть адекватно выражена в идее, понятии, то что делать искусству после Гегеля? Только стушеваться и занять подчиненное место популяризатора великих идей. В лучшем случае искусство может параллельно с наукой открывать некоторые социальные явления, может быть, несколько даже забегать вперед, играть роль разведки (так, например, Бальзак – для политической экономии). Но в конечном счете истина находит свое адекватное научное выражение. Писатель показывает то, что политэконом доказывает (так, примерно, учил Белинский) ; ни на что большее литература не способна. Из этого вытекает, что роман Чернышевского «Что делать?» написан правильно, и чистая случайность, что художественно он неудачен.
Если же образ, икона – более адекватное выражение истины, чем идея, то роман «Что делать?» (отвлекаясь от его идей) написан неправильно, и писать надо иначе, так, как написано «Преступление и наказание», поставив всяку ю идею пред высшим судьей (символ которого для Достоевского – Христос). Тогда разница между Чернышевским и Достоевским не только в таланте, а в правильном и неправильном понимании литературной задачи. Во всяком случае, такова разница между молодым Достоевским, находившимся в какой-то мере под влиянием эстетики Белинского, и зрелым Достоевским, который с этим влиянием порвал. До 43 лет (то есть отнюдь уже не мальчиком) Достоевский не умел строить роман, а после – научился. Он дает своим героям широчайшую возможность «упражняться в мышлении», но целое строит на краеугольном камне иконы или мифа.
Дело, разумеется, не в том, что романтическая теория познания безусловно верна или что мифо-поэтическое мышление безусловно превосходит логико-понятийное, научное.
Я думаю, что это не так, что каждый вопрос, который может быть выделен, обособлен, ограничен, попадает во власть науки и во многих случаях научное исследование – главный, если не единственный путь к истине. Мифо-поэтическое мышление остается единственной альтернативой только там, где научное познание невозможно, – при подступах к тайне целого (к целостности бытия, к целостности личности). Во многих случаях оно идет рядом с научным мышлением к одной цели и может контролироваться им – и в свою очередь контролировать его, так что «поэтическое» и «научное», «ассоциативное» и «логическое», «интуитивное» и «дискурсивное» лучше сочетать, чем противопоставлять.
Но если уж ошибаться, если уж делать крен в ту или другую сторону, то художнику лучше ошибаться так, как Достоевский, чем так, как Чернышевский.
Любой средний западник решил бы вопрос о судьбе Константинополя или о независимости Польши лучше, чем это делал Достоевский. Некоторые страницы его (и не только в «Дневнике писателя», а в романах) стыдно перечитывать – именно рядом с другими страницами, высочайшими по своему духовному уровню. Отказавшись от организующей роли идеи, от контроля логики, Достоевский временами попадает во власть довольно пошлых стереотипов, и они выпирают из тонко организованного текста карикатурными образами полячишек, жидков, немцев и французов (вообще всех иностранцев, кроме англичан, к которым он почему-то сохранил симпатию) или не менее карикатурными образами нигилистов. Но если говорить о художестве в целом, о способности создавать художественное целое, прекрасное, несмотря на отдельные испорченные страницы, то это искусство – тот самый случай, в котором мифопоэтическое мышление сильнее, чем какой угодно философский метод. Перефразируя Маркса, я бы сказал, что какая-то мифология (или иконология, или легендология) всегда была, есть и будет почвой и арсеналом великого искусства.