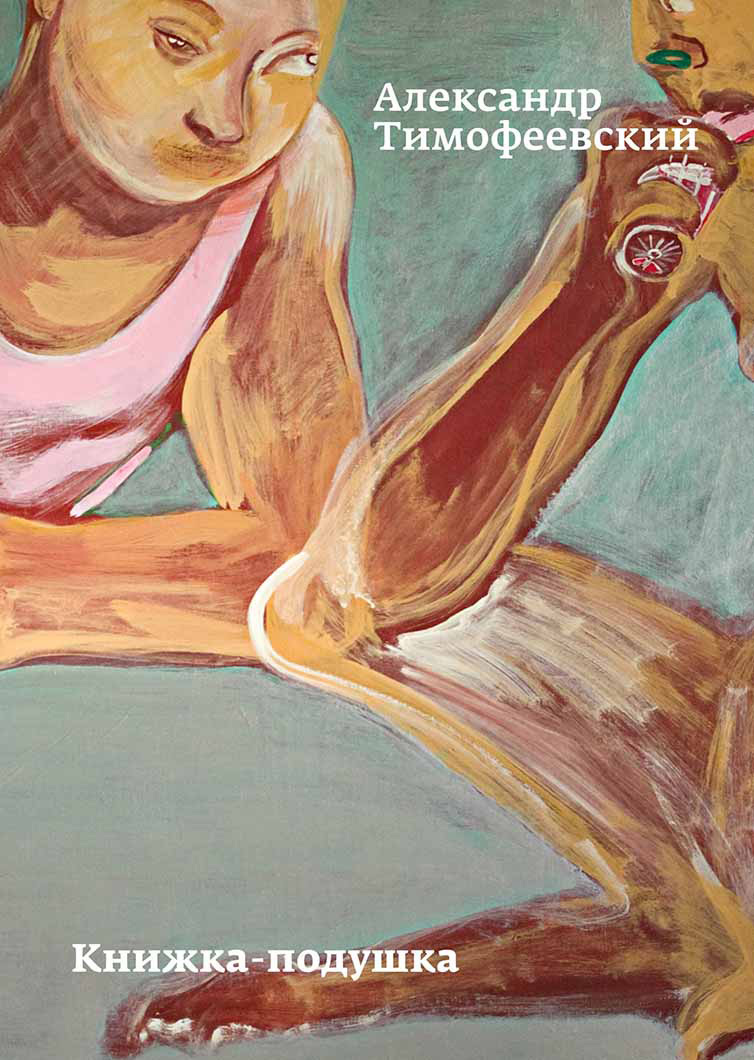у Фасбиндера, но все они скорее скомпрометировали «Гибель богов». Они закрепили в сознании зрителя то, что без конца муссировали критики, рассуждавшие о фильме Висконти: миф, Ницше, тотем, Фрейд, миф. Эти слова, уместные по отдельности и, быть может, даже вместе, не многое объясняют в фильме Висконти, а сегодня в России — только путают.
Российское кино в своем освоении тоталитарного прошлого довольно быстро прошло через публицистическую стадию и сейчас уже миновало мифологическую. Со снятой всего лишь три года назад «Прорвой» Ивана Дыховичного нынче все согласны, она стала повсеместно уважаемым общим местом. И все мгновенно переменилось. Правда характеров и логика поступков вкупе со здравым смыслом теперь вызывают тоску, ничем не оборимую. Слово «миф» опять ничего не значит и навевает лишь сон. «Гибель богов», попав в такую передрягу, может вызвать снисходительную улыбку. Впервые широко демонстрируемый фильм Висконти то ли опоздал, то ли слишком рано появился. Осознавать крушение связей как «миф» русский зритель уже устал, а как «гибель культуры» еще не научился. Для этого нужно погрузиться в стабильную, прочную, неотменяемую скуку, в которой веками жили Эссенбеки, чего «Ъ» от души желает своим читателям.
Декабрь 1994
Пьеро ди Козимо. «Вакх обнаруживает мед»
Сентябрь 1994
Вчера в Киноцентре состоялась пресс — конференция, посвященная ретроспективе Федерико Феллини. В нее включены все художественные картины великого итальянского режиссера, в том числе и короткометражные, документальный фильм «Дневник режиссера», рекламные ролики, а также ленты Росселлини, снятые по феллиниевским сценариям. Такая максимально полная программа до Москвы была уже показана в Нью — Йорке, Париже и Амстердаме. Нынешняя ретроспектива, подготовленная Cinecitta International и Итальянским институтом культуры в Москве при участии Киноцентра.
Музея кино и Госфильмофонда России, дает исчерпывающее представление о творчестве Федерико Феллини.
Мало какой, даже очень крупный, художник задает тон эпохе. Федерико Феллини это сделал трижды.
В пятидесятые годы, поставив «Дорогу» и «Ночи Кабирии», он неожиданно для всех поставил крест на итальянском неореализме. Вместо общепринятой социальной драмы Феллини предложил драму экзистенциальную, вместо привычной тогда коллизии «человек и общество» — извечную коллизию «человек перед судом Божьим». Знаменитая улыбка Джульетты Мазины, улыбка радости — страдания, обозначила эстетический переворот, последствия которого все еще значимы. Безраздельно господствуя на мировом экране последние сорок лет, экзистенциальная драма пережила множество взлетов и падений, пока благополучно не омертвела, превратившись в канон, до сих пор самый передовой и уже вполне буржуазный. В этом смысле Вендерс с Кесьлевским — любимцы европейского истеблишмента — следуют тону, некогда заданному Феллини.
Сам Феллини еще в семидесятые годы повернул в прямо противоположную сторону, сняв «Казанову». От подлинности переживаний экзистенциальной драмы здесь не осталось и следа, от радости — страдания тоже. Психологичность и глубину чувств заменил театр марионеток. Павильон и обычно скрываемая бутафория были выставлены напоказ, море обозначалось тряпкой. Путешествие Казановы по городам — Венеция, Париж, Парма, Лондон, Рим, Женева… — было путешествием по культурам, каждая из которых представала в виде нарочито наглядной метафоры. Венцом этих метафор становился роман Казановы с куклой — безукоризненная в своей простоте метафора всего кукольного XVIII века. Между этими двумя переворотами — экзистенциальным и постмодернистским — был еще один, в свое время неточно названный «авангардным». На рубеже пятидесятых- шестидесятых годов Феллини одну за другой снял две картины — «Сладкую жизнь» и «Восемь с половиной», которые было принято отчасти противопоставлять как «монументальную фреску» и «лирическую исповедь» и беспрестанно сопоставлять как образцы авангардного потока сознания. Вторая картина вызвала несметное количество подражаний, в том числе и совсем не бездарных: свою версию того, как снимается фильм, который невозможно снять, предложили десятки режиссеров. Наиболее знаменитой стала версия Анджея Вайды — «Все на продажу».
Формально Вайда был весьма близок Феллини, по сути же весьма от него далек. Как и все остальные поклонники «Восьми с половиной», Вайда делал упор на заикающийся лиризм, который, конечно, не чужд Феллини, но никогда у него не отменял глобальности. Между «Восемью с половиной» и «Сладкой жизнью» было значительно больше общего, чем казалось в начале шестидесятых. В обеих картинах поток сознания — отнюдь не самоцельный, не авангардный и менее всего формальный прием. И в «Сладкой жизни», и в «Восьми с половиной» он выражает лишь абсолютную авторскую тождественность предмету, о котором речь. Любая самая частная история у Феллини всегда — история Рима, то есть европейской культуры, и «лирическая исповедь» призвана до поры до времени маскировать это: в каждом фильме Феллини описывает «большого себя» — подобно тому, как «большого себя» описывали в своих романах Толстой и Достоевский.
В последние пятнадцать лет Феллини раскладывал одни и те же пасьянсы из любимых персонажей, иногда приправляя стариковские воспоминания брюзжанием на масс — медиа, по — прежнему остроумным, но уже бессильным. И с каждым годом росла его слава, достигнув каких — то карикатурных размеров: он стал именем нарицательным кинематографа, одинаково родным и для директора банка, и для директора базы, и для амбициозного интеллектуала, и для врача — учителя. Лишь новое поколение с уважительной снисходительностью кривило свои постмодернистские губы, неблагодарно забыв, что именно он сделал «Казанову». О нем написаны целые библиотеки, варьирующие одни и те же слова о «неистовстве барочной фантазии», о «карнавале», о «природе кино», которую он вскрыл и запечатлел.
В России Феллини давно уже стал самым любимым кинорежиссером, «нашим всем», намного опережая по популярности и Висконти, и Бунюэля, и Фасбиндера, и Бергмана, которые, очевидно, не уступают ему по значению. Россия сердечно отозвалась на его простодушие, на его провинциализм, на его сентиментальность, на то, что чуть ли не все его фильмы заканчиваются либо детьми, либо слезами. И здесь Россия, быть может, проницательнее других поняла, какое именно место займет он в истории искусств. В самоописании «большого себя» у Феллини замечательнее всего та органичность, с которой он объединяет Римини, где родился, и Рим, где жил, провинцию и Капитолий, вписывая свой карнавал из бродяг, аристократов, проституток, журналистов, американских туристок, сутенеров и клоунов в вечную жизнь Вечного города. По сути, единственное, что он сделал, — это объединил Рим метропольный и Рим маргинальный. Совсем немало, памятуя о том, что Рим не Лос — Анджелес и даже не Третий Рим, и в истории культуры занимает другое, более существенное место. В последний раз в образ Вечного города с такой решительностью вмешивались триста лет назад Борромини и Бернини. Исходя из общих соображений и правил арифметики, в