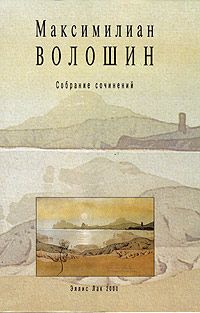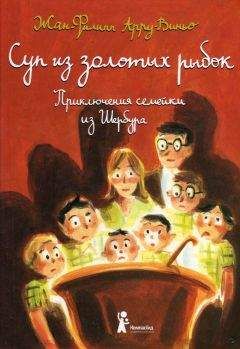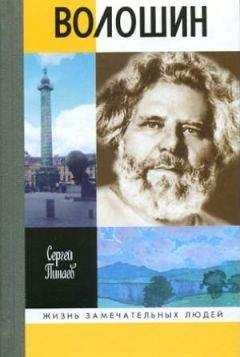И я встретил это дерево и поцеловал его, сжимая в объятиях, как самого древнего человека. Потому что раньше, чем я родился, и после того, как мы всё пройдем, – оно здесь, и мера времени для него иная. Сколько после-полудней я провел у его ног, опоражнивая свое сознание от всяких шумов.
Широкошумное, открой мне то слово, которое есть я сам, чье странное напряжение я чувствую в себе! Ты само – одно непрерывное напряжение, одна воля – высвободить свое тело из мертвого вещества. Как ты сосешь землю, внедряя и распростирая во все стороны свои сильные, свои проницающие корни! А небо! как ты воздымаешься в нем! Как напрягаешься – ты всё – в своем дыхании – в своей листве – лике огня!
И неистощимая земля, сжимающая все корни твоего существа, и небо с солнцем и звездами в движении года, с которыми ты связано ртом, составленным из всех твоих рук, букетом всего твоего тела, – вся земля и всё небо нужны тебе для того, чтобы ты росло прямо. Я хочу стоять прямо, как и ты. Я не хочу утерять свою душу! Это семя сущности, это внутренняя влага, это буйство, которое и есть мое Я, я не хочу растратить его в напрасном снопе трав и цветов. Я хочу быть единым и стоять прямо! Но сегодня не вас, о ветви, голые в тусклом и облачном воздухе, я пришел слушать. Я пришел вопрошать вас, – глубокие корни, о тайне тоски и смерти той земли, которою вы питаетесь».47
Клодель ушел из Европы на поиски первокорней человека, которые он прозрел в дереве. Китай случайно оказался его путем. «Разве мне нужна дорога, когда я знаю, куда я иду?» – говорит он устами того же Златоглава.48
Однако не без тайного смысла судьба связала его не с Индией, не с Персией, не с Сиамом – героическими странами легенд и богов, но с Китаем, где человек стоит на земле в свой естественный малый рост, в своей будничной и трудовой обстановке, где обыденные подробности жизни овеяны тысячелетиями устоявшейся земледельческой мудрости. Клодель, – утонченнейший представитель надламывающейся латинской культуры, затаил в себе голод по тем корням человеческой души, в которых чувствуется острый и горький вкус сырой земли. В Китае, где всё построено в точную меру человеческого роста, тем глубже для него раскрылась безмерность, скрытая в простой человеческой мере.49 Он нашел в Китае «самого древнего человека», то «дерево», которое научило его воле и мудрости. Одинокий между людей, Клодель неуклонно ищет общества деревьев, в каждом из них угадывая и точно отмечая вековое усилие воли, жест преодоления.
В «Познании Востока» он оставил страницу, раскрывающую на один момент его душу, в то время как он ехал в Китай.
Во время остановки на Цейлоне, вечером, он ходил по отмели, о которую разбивалась пена «Львиного» Индийского океана. Виднелись пальмы, «похожие на скелеты барок и животных». Пустой, безлиственный лес казался пауками, ползущими на сумеречное небо. Венера, вся напитанная чистейшими лучами, бросала столб света на воды, как луна. Кокосовая пальма, «склоняясь над морем и звездой, делала жест, точно простирала свое сердце к небесному огню».50
Клодель, глядя на этих, еще невиданных, братьев своего духа, размышлял:
«У нас дерево растет прямо, как человек, только неподвижно; внедряя свои корни в землю, оно стоит, простирая руки. Здесь же священный банан вырастает не из единой точки: с него свисают нити, которыми он возвращается искать грудь матери; он подобен храму, рождающему себя из себя. Но я хочу говорить о кокосовой пальме. У нее нет ветвей, и на вершине ствола она возносит султан листьев. Пальма – это образ триумфа. Она кидает ввысь пышную вершину и изнемогает от бремени своей свободы. В жаркие дни она раскрывает листья в экстазе счастья, и в том месте, где они расходятся, видны черепа кокосовых орехов, точно головы детей.
Кокосовая пальма делает жест, точно она раскрывает свое сердце».
«Я вспомню об этой ночи, когда буду возвращаться», – думал он.
III
Ученые, размышляя о возможностях беседы с обитателями иных планет, не нашли способа общения иного, как посредством геометрических чертежей. Для того, кто в первый раз посещает чуждую страну, нет иного пути к познанию темного строя человеческого духа, как молитва и геометрический чертеж молитвы – архитектура храма.
Поэтому Клодель пошел прежде всего осмотреть пагоду.51
Было утро. Ясный декабрьский свет и жарко.
Страшный нищий с одним глазом, полным крови и воды, обозначил начало его пути. Рот без губ, съеденных проказой, был открыт до корней зубов, желтых, как кости. От лица не оставалось больше ничего.
Поль Клодель 115
Два ряда нищих стояли по обеим сторонам дороги. Самого старого звали королем нищих. Он был безумен со дня смерти своей матери и ее мумифицированную голову носил с собой под одеждой.52 Две старухи пели нескончаемую жалобу с долгими замираниями и икотой, выражая отчаяние, согласно ритуалу бедных.
Вдали, окруженная садами, была видна пагода. Клодель пошел к ней прямиком по полям, через пригорки, поросшие тростником и сухой травой. Повсюду виднелись могилы. Вся земля была одно кладбище и говорила о множестве сменившихся поколений.
Он прошел между убежищем для престарелых домашних животных и колодцем для трупов новорожденных девочек, которых убивают родители, чтобы избавиться от лишнего бремени. Колодец был завален камнями, так как он был полон. Рядом рыли новый.
Перейдя через поле, засеянное бобами, он подошел к башне в семь этажей и услышал перезвон колокольчиков и удары барабана. Он прошел по трем дворам и трем храмам.
Под первым портиком стояла золоченая статуя толстого человека. Правая подогнутая под него нога указывала на третью степень самопогружения, при которой сохраняется сознание. Глаза были закрыты, а рот, длинный, с расширяющимися углами в форме цифры 8, улыбался улыбкой спящего, который грезит. С четырех сторон залы первого храма стояли четыре статуи, раскрашенные и лакированные, на коротких ногах с громадными туловищами. Это были боги четырех стран света. Один из них держал связку змей, другой играл на скрипке.
На краях крыши второго – главного – храма Клодель обратил внимание на розовых рыб, длинные, медные плавники которых трепетали от ветра, и двух-драконов, сражавшихся из-за мистического сокровища. Посреди главной залы, высокой и просторной, сидел на троне золотой колосс. Его глаза были закрыты, ноги поджаты под него, а правая рука висела прямо, указывая на землю «жестом свидетельства».
«Таким, под священным деревом, сознал себя совершенный Будда, освобожденным от круговращения жизни, причастившимся собственной неподвижности», – подумал Клодель.
Кругом него на лотосах сидели небесные Будды: Авалонхита, Амитабха, Будда света безграничного и Будда западного Рая.
Бонзы в серых одеждах, с бритыми головами, совершали богослужение: коленопреклоненные, они простирались перед истуканами, пели литании, а один мерно ударял о колокол бронзовой палочкой.
В третьем храме сидели четыре бонзы, как статуи Будды. Их сандалии остались на земле перед ними.
«Оторванные от земли, без ног, невесомые, они восседают на собственной своей мысли. Сознание собственного бездействия достаточно для пищеварения их духа», – думал Клодель.
Выходя из пагоды, через сад, в котором стояли – бронзовая курильница, сплошь покрытая надписями, раскрашенные скульптуры и между ними Аматофу, поднимающийся на небо в вихре пламени и демонов, он размышлял:
– Здесь святилище не замыкает в себе ревниво и жадно, как в Европе, таинство веры и догмата. Не его дело здесь защищать безусловное от внешней призрачности. Здесь оно образует известную среду, самое себя наполняющую. Оно как бы подвешено к небу и включает всю природу в тот дар, который составляет само. Многочленное, всею стопою стоящее на земле, соответствием высоты и расстояния трех триумфальных арок или храмов, оно символизу-ет пространство, и Будда – князь мира там пребывает со всеми богами… Китайская архитектура уничтожает стены: она расширяет и множит крыши и, вытягивая углы, которые подымаются изящным взмахом, обращает всё движение и все изгибы линий к небу; они как бы висят в воздухе, и чем крыша в ее целом более широка и обременена, тем больше, в силу самой тяжести, растет ее легкость, благодаря той тени, которую бросает вниз размах ее крыльев.
Отсюда это употребление черных черепиц с глубокими желобами и сильными ребрами. Их прорези высвобождают и делают более четким конек крыши: источенный и изукрашенный, он кружевится в сияющем воздухе. Храм здесь – это балдахин, приподнятые углы которого подвязаны к облаку, а идолы земли стоят в его тени.53
…Точно так же, как пагода системой своих дворов и зданий обозначает протяжение и размеры пространства, так же башня выражает высоту. Противопоставленная небу, она сообщает ему меру. Ее семь восьмигранных этажей – это разрез семи мистических небес. Архитектор заострил углы и искусно приподнял их края, и на каждом углу каждой крыши подвесил колокольчик. Неизреченный слог – каждый колокольчик – это неразличимый для наших ушей голос своего неба, и неожиданный звон подвешен в нем, как капля.