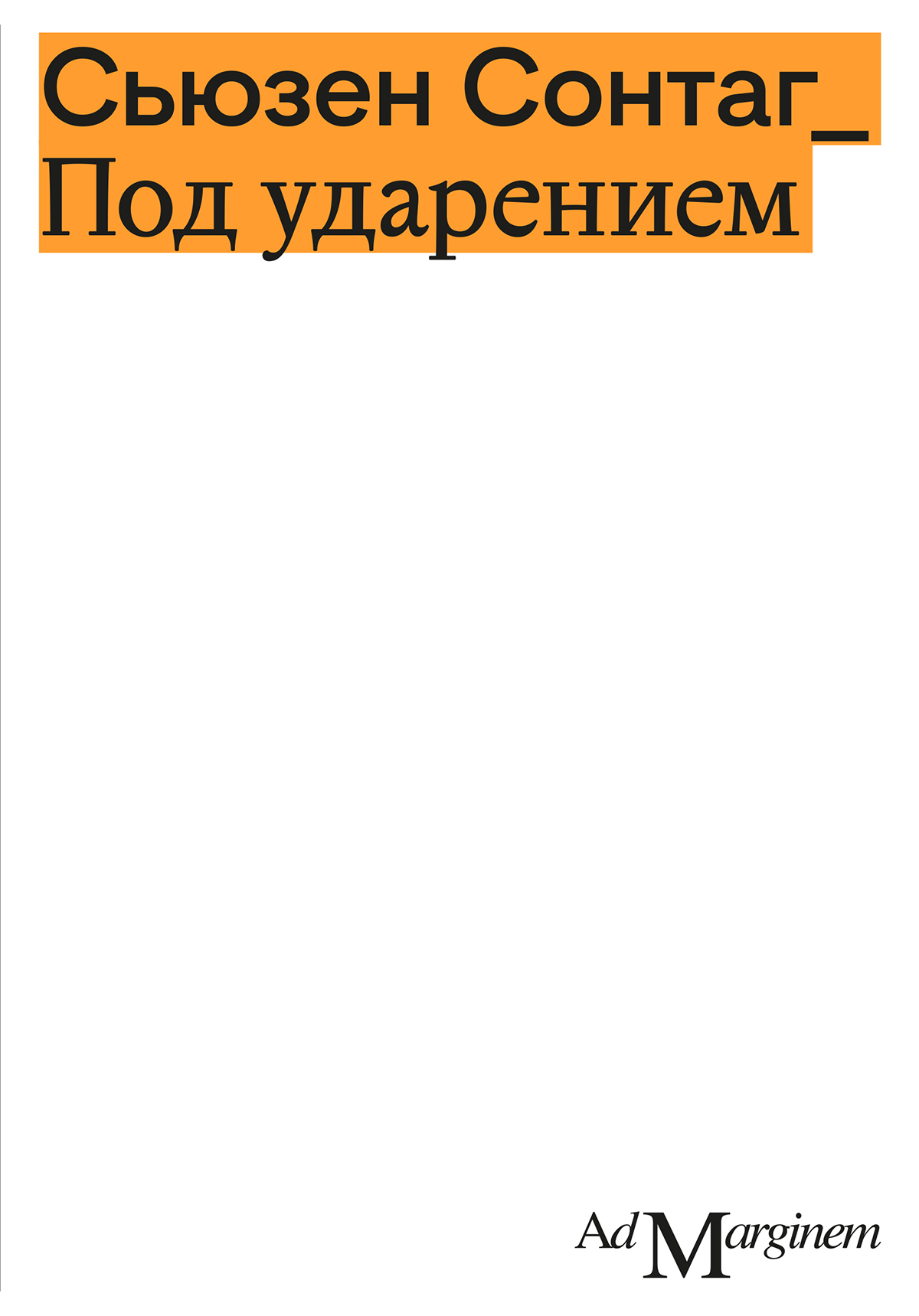естественным, что ему была близка тема моды. Моду воспринимали серьезно многие французские авторы, от Бодлера до Кокто, а Стефан Малларме, один из основателей литературного модернизма, служил редактором журнала мод. Французская культура, в которой идеалы эстетизма всегда были влиятельнее, чем в любой другой европейской культуре, допускает связь между идеями авангардного искусства и моды. (Французы никогда не разделяли англо-американскую убежденность в том, что модное противоположно серьезному.) В Японии нормы эстетизма проницают целую культуру и на целые столетия предваряют современные ироничные воззрения; эти взгляды были сформулированы уже в X веке, в
Записках у изголовья Сэй-Сёнагон, своеобразном требнике дендизма, обладающем ошеломительно современной формой – разрозненные записки, анекдотические случаи и перечисления. Интерес Барта к Японии служит выражением увлеченности менее консервативной, относительно невинной и гораздо более развитой, чем европейская, версией эстетической чувствительности; в этой культуре больше пустых пространств и красоты, чем во французской, больше прямоты (в безобразии нет красоты, как у Бодлера); это культура доапокалиптическая, изысканная, безмятежная.
В западной культуре, где дендизм занимает маргинальное положение, его природе свойственно преувеличение. В одной форме, относительно традиционной, эстет – это сознательный истребитель вкуса, придерживающийся установок, которые позволяют утешиться наименьшим количеством вещей; речь идет о сведении вещей к наименьшему их выражению. (Раздавая «плюсы» и «минусы», вкус предпочитает уютные прилагательные, такие как – в качестве похвалы – «счастливый», «забавный», «очаровательный», «приятный», «подходящий».) Элегантность равняется наибольшей мере отказа. В языке такое отношение находит выражение в горестной остроте, презрительном изречении. В другой форме эстет поддерживает нормы, которые позволяют удовлетвориться наибольшим числом вещей; речь идет о вовлечении новых, нетрадиционных, даже недозволенных источников удовольствия. Литературным приемом, который лучше всего проецирует это отношение, служит список (их множество в Ролане Барте) – прихотливая эстетическая полифония, где сопоставлены вещи и переживания резко отличающиеся друг от друга, часто несообразные. Посредством этого приема вещи превращаются в артефакты, эстетические объекты. Элегантность здесь равна остроумнейшему принятию мира. Позиция эстета балансирует между невозможностью достичь удовлетворенности и возможностью черпать удовольствие, удовлетворенность буквально во всём [8].
Хотя оба направления вкуса денди предполагают отстраненность, вариант, ориентированный на исключение (эксклюзию), более сдержан, холоден. Вариант вовлечения (инклюзии) может показаться восторженным, даже несдержанным; здесь эпитеты, используемые в целях похвалы, как правило, эмоционально завышены, а не занижены. Барт, обладавший высоким вкусом денди, стремящегося к исключению, был в большей степени склонен к его современной, демократической форме, то есть к эстетскому выравниванию, – отсюда его готовность находить обаяние, забавность, счастье, удовольствие во многих вещах. Например, его рассказ о Фурье – это, в конце концов, оценка эстета. Барт пишет о «маленьких деталях», из которых, по его словам, соткан «весь Фурье»: «Меня увлекает, ослепляет, убеждает своего рода обаяние его выражений… Фурье роится небольшими праздниками… Я не могу устоять перед этими удовольствиями; мне они кажутся истинными». Точно так же вид улиц в Токио, который для иного праздного прохожего, не слишком склонного искать удовольствие во всех вещах, может оставить впечатление угнетающей переполненности, для Барта означает «преобразование качества в количество», новый тип отношений, что есть «источник бесконечного празднования».
Многие суждения и интересы Барта косвенно подтверждают нормы эстетики. Его ранние эссе, отстаивающие ценность сочинений Роб-Грийе и снискавшие Барту не вполне оправданную репутацию поборника литературного модернизма, были фактически эстетической полемикой. «Объективное», «буквальное» – эти строгие, минималистские идеи литературы – на самом деле предлагаемый Бартом путь изобретательной переработки одного из основных тезисов эстета – поверхность так же показательна, как глубина. В 1950-е годы Барт разглядел в Роб-Грийе новое, «высокотехнологичное» воплощение писателя-денди; он приветствовал в Роб-Грийе желание «удержать роман на поверхности», тем самым расстраивая наше желание «погрузиться в глубины психологии». Идея о том, что глубины смутны, демагогичны, что человеческая сущность не движется на дне вещей и что свобода заключается в пребывании на поверхности, на большом стекле, где циркулирует желание, – таков центральный аргумент современной эстетической позиции, которая в различных образцовых формах существует уже сто лет. (Бодлер. Уайльд. Дюшан. Кейдж.)
Барт снова и снова выдвигает аргумент против «глубины», против идеи, будто всё самое настоящее, истинное – латентно, погружено на дно. Театр бунраку рассматривается как отказ от антиномии материи и духа, внутренней и внешней. «Миф ничего не скрывает», заявляет Барт в Мифе сегодня (1956). Эстетическая позиция не только подразумевает трактовку понятия глубины, скрытности как мистификацию, ложь, но и противостоит самой идее антитезы. Конечно, рассуждения о глубинах и поверхностях – это уже искажение эстетического взгляда на мир, умножение двойственности, подобно форме и содержанию, которую как раз отрицает эстет. Важнейшее формулирование этой позиции совершил Ницше, труды которого образуют критику фиксированных антитез (добро против зла, правое против неправого, правда против лжи).
Но если Ницше поносил «глубину», то и прославлял «высоты». В постницшевской традиции нет ни глубин, ни высот; здесь бытуют лишь разновидности поверхности, зрелищ. Ницше сказал, что каждая глубокая натура нуждается в маске, и вознес похвалу – с глубокой проницательностью – интеллектуальной хитрости; но говоря, что грядущий век, наш век, будет веком актера, он делал исключительно мрачное предсказание. Идеал серьезности, искренности лежит в основе всего творчества Ницше, что делает переплетение его идей с идеями истинного эстета (как Уайльд, как Барт) столь проблематичным. Ницше был гистрионическим мыслителем, но не любителем театрального. Его двойственность по отношению к зрелищам (в конце концов его критика Вагнера заключалась в том, что музыка Вагнера есть акт соблазнения), его желание настаивать на неподдельности зрелища означают, что здесь применимы критерии, отличные от гистрионических. В мировоззрении эстета представления о реальности и зрелище усиливают и проницают друг друга, и соблазнение всегда воспринимается как нечто позитивное. В этом отношении идеи Барта отличаются образцовой согласованностью. Представления о театре прямо или косвенно питают всё его творчество. (Раскрывая секрет, много позже, он заявил в Ролане Барте, что каждый без исключения его текст «соотносился с определенным театральным действом, а зрелище – универсальная категория, сквозь формы которой проглядывает мир».) Барт объясняет «антологическое» описание Роб-Грийе как технику театрального дистанцирования (преподнесение объекта таким, «как будто он сам по себе есть спектакль»). Мода – это, конечно, еще одна антология театрального. То же можно сказать об интересе Барта к фотографии, каковую он рассматривает исключительно как созерцательное наваждение. В рассуждениях о фотографии (Camera Lucida) едва ли упомянуты фотографы – речь именно о фотографиях (автор рассматривает снимки разве что не как случайно найденные объекты) и о тех, кто ими зачарован как объектами эротической фантазии, как напоминанием о смерти.
То, что Барт написал о Брехте, которого открыл для себя в 1954 году (когда «Берлинер Ансамбль» посетил Париж с постановкой Мамаши Кураж), и то, в какой мере он способствовал распространению известности Брехта во Франции, меньше