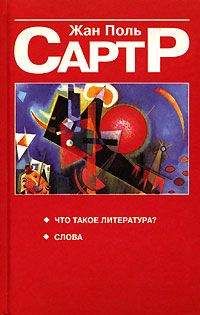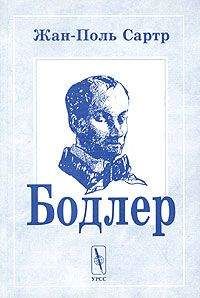Это совершенно стабильное общество, оно не чувствует надвигающейся опасности. У него есть мораль, шкала ценностей и система объяснений, предназначенная для интеграции местных изменений. Это общество убедило себя, что находится вне Историчности, что в буржуазной Франции больше никогда ничего важного не случится. В благополучной Франции, возделанной до последнего клочка земли, поделенной на клеточки вековыми стенами, застывшей в привычных методах промышленности, покоящейся на славе своей Революции, невозможно себе представить другой техники романа. Иногда некоторые авторы пытались использовать новые формы, но их ждал лишь мимолетный успех курьеза, они остались однодневками. Эти попытки не востребовались ни писателями, ни читателями, ни коллективом, ни его мифами.
Обычно литература становится неотъемлемой и воинственной функцией общества. Но буржуазное общество конца XIX века представляет беспрецедентное зрелище. Рабочие массы сплачиваются вокруг знамени производства. Из него рождается литература, которая не только не отражает общество, но и не говорит на интересующие его темы. Литература опровергает его идеологию, делает Прекрасное непродуктивным, отказывается от сближения и даже не хочет, чтобы ее читали. Но несмотря на это, из глубины своего бунта, в самых дальних структурах и в своем "стиле" отражает мироощущение правящих классов.
Не стоит ругать авторов того времени. Они сделали все, что могли. В их числе есть представители самых видных и самых чистых наших писателей. Помимо этого, вспомним, что любое поведение человека открывает нам свой аспект сущего. Их позиция, независимо от их желания, обогатила нас. Она продемонстрировала нам бесполезность как одно из многочисленных измерений мира и возможную цель творчества человека. В любом случае, они были художниками, поэтому их творчество несет в себе отчаянный призыв к свободе читателя, хотя они и делают вид, что презирают его.
Свой протест литература довела до предела. Она сделала его отрицанием самой себя и заставляет нас видеть за сражением слов ледяное безмолвие, а за духом серьезности – пустое и голое небо равносильных величин. Она призывает нас подняться над небытием через разрушение всех мифов и шкалы ценностей. Будит в человеке, вместо близости к божественной трансцендентности, его крепкую и скрытую связь с Ничто.
Эта литература еще подросток. Она в том возрасте, когда молодой человек, которого еще содержат родители, никчемный и безответственный, сорит семейными деньгами, осуждает отца и спокойно наблюдает за крушением вселенной, защищавшей его в детстве. Кайуа показал, что праздник – это одно из отрицательных мгновений, когда собрание людей потребляет накопленные богатства, преступает законы морали, тратит только ради удовольствия тратить, разрушает ради удовольствия разрушать. Поэтому можно сказать, что литература конца XIX века обитала на обочине трудящихся масс, зацикленных на мифе бережливости, как пышное похоронное празднество, как приглашение гореть и сгореть дотла в прекрасной аморальности костра страстей. Если я напомню, что эта литература нашла свое позднее завершение и конец в троцкистствующем сюрреализме, то будет легче донять, какую функцию она выполняла в столь закрытом обществе. Это функция предохранительного клапана. В сущности, от вечного праздника до перманентной Революции не так уж и далеко.
Все-таки, для писателя XIX век был временем вины и падения. Если бы он воспринял деклассированность низов и сделал свое искусство содержательным, ему пришлось бы другими средствами и в другом ракурсе продолжать дело предшественников. Писатель помог бы перейти литературе от отрицания и абстракции к конкретному созиданию. Сохранив независимость, завоеванную в XVIII веке, которую невозможно было у нее отнять, он снова влился бы в общество. Писатель мог бы рассказывать и поддерживать завоевания пролетариата. Сущность его творчества стала бы более глубокой. Автор осознал бы, что соответствие есть не только между формальной свободой мысли и политической демократией, но и между реальной обязанностью избрать постоянной темой для размышлений человека и социальную демократию. Тогда его стиль опять стал бы внутреннее напряженным, потому что он имел бы дело с расколотой публикой. Поставь он перед собой цель пробудить сознание рабочих и показать буржуазии ее несправедливость, его произведения представили бы мир полностью. Он научился бы отличать великодушие – первоисточник произведения искусства, безусловный призыв к читателю, – от щедрости, этой карикатуры на великодушие. Писатель отошел бы от психологического истолкования "человеческой природы" ради искусственной оценки участи человека.
Конечно, это было бы очень трудно и даже, пожалуй, невозможно. Но он даже не попробовал это сделать. Не стоило стараться уйти от любой и вся-кой классовой принадлежности, не надо было "преклоняться" перед пролетарием, а мыслить как буржуа, очутившийся вне своего класса, связанный с угнетенными массами общностью интересов. Только из-за того, что писатель открыл роскошные изобразительные средства, мы не можем забывать что он предал литературу.
Но его вина не только в этом. Если бы авторам удалось отыскать слушателей среди угнетенных, может быть, различие их подходов и разнообразие их сочинений позволило бы создать в массах то, что так удачно названо движением идей, открытую, противоречивую, диалектическую идеологию.
Можно не сомневаться, что марксизм и так победил бы. Но в этом случае его искушали бы сотни оттенков, ему пришлось бы поглотить соперничавшие с ним доктрины, переварить их, сделаться открытым.
Мы уже знаем, что из этого вышло. Мы имеем всего две революционные идеологии вместо ста. В рабочем Интернационале до 1870 года большинством являются прудонисты, которых привел к поражению провал Коммуны. Марксизм победил не благодаря гегельянскому отрицанию, которое он сам отрицает, а в силу того, что была уничтожена одна сторона противоречия. И так ясно, во что обошлась марксизму эта бесславная победа. Без оппонентов он потерял жизненность. Для него же было бы лучше в постоянной борьбе, преобразовываясь, чтобы побеждать, и отбирая оружие у своих противников, отождествиться с духом. Оказавшись в одиночестве, он стал Церковью. А в это время писатели-дворяне за тысячу лье от него превратились в хранителей абсолютной духовности.
Конечно, я понимаю, что пристрастен и сколь спорен такой анализ. Можно привести множество исключений, и мне они известны. Чтобы учесть их, мне пришлось бы написать толстенную книгу, поэтому я отобрал только самое необходимое. Просто нужно понять в каком духе я задумал эту работу. Если попробовать увидеть в ней попытку, пусть даже поверхностную, социологического исследования, она просто потеряет смысл. Это аналогично тому, чтобы у Спинозы рассматривать идею отрезка прямой, вращающегося вокруг одного из своих концов, вне искусственной, конкретной и законченной идеи окружности, которая ее поддерживает, дополняет и оправдывает. Так и мои рассуждения останутся абстрактными, если рассматривать их вне контекста произведения искусства, то есть свободного и безусловного обращения к свободе. Писать без публики и без мифа невозможно. Публику создают исторические обстоятельства, а миф о литературе зависит, в основном, от запросов этой публики. Просто автор зависит от обстоятельств, как и любой другой человек. Но его произведения, как любое творение человека, сразу включают, уточняют, разрешают эти обстоятельства, даже объясняют и обосновывают их. Так же идея круга объясняет и обосновывает идею вращения отрезка.
Главной и необходимой характеристикой свободы становится то, что она находится в ситуации. Описать ситуацию – не означает стать свободным. Янсенистская идеология, закон трех единств, правила французской просодии – еще не искусство. Относительно искусства они – ничто. Никогда путем простых комбинаций их не создать хорошую трагедию, хорошую сцену или даже хороший стих. Но искусство Расина должно было исходить из них. Оно не приспосабливалось к ним, как довольно глупо говорилось, и не брало от них натянутость и скованность. Наоборот, изобретая их заново, придавая новую, ему одному присущую функцию делению на определить, вытекает ли его сюжет из стереотипов эпохи, или он сам выбрал такую технику, потому что ее определил сюжет. Надо вспомнить всю антропологию, чтобы понять, какой Федра не могла быть. Что она представляет собой на самом деле – – достаточно просто прочитать или послушать, то есть стать чистой свободой и великодушно отдаться доверию.
Эти примеры выбраны мной только для того, чтобы рассмотреть в разных эпохах ситуацию свободы писателя, показав запросы к нему и осветив границы его призыва. Через мнение публики о его роли мы смогли увидеть необходимые границы создаваемого им самим представления о литературе. Если вы согласны, что суть литературного творчества – это свобода, открывающаяся самой себе и стремящаяся быть только обращением к свободе других людей, то должны принять и то, что различные формы угнетения, скрывая от людей их свободу, частично или полностью прячут от писателей эту истину.