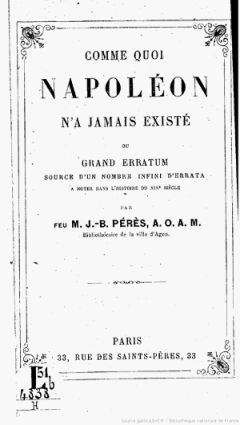Донцы-молодцы! куда же вы стремитесь? И где тот Кулиш, который будет сочинять для вас буквари? где тот Костомаров, который будет издавать их? И на каком языке будут сочиняться эти буквари? Кому известен язык Земли Войска Донского? Есть ли в нем слова «хиба», «вже» и проч., совершенно необходимые для образования сильного и самостоятельного языка? Обладает ли донская литература песенкой подобной той, которую некогда сочинил И. С. Тургенев для малороссиян:
Грае, грае, воропае!
Гоп! Гоп!
Все это покрыто мраком неизвестности. Известно только, что в 1814 году донцы-молодцы были в Париже и, быть может, действительно позаимствовались там несколькими выражениями, вроде записанных тем же г. Тургеневым: «пардон, севуплей!» и «нет тебе севуплею!». Следовательно, вопрос заключается в том, могут ли эти немногие выражения послужить основанием для сепаратизма, и возможно ли с помощью их одних сочинять буквари? «Московские ведомости» опасаются, что да, и я не смею не верить этой вдохновенной газете, ибо опять-таки знаю, что она черпает свое вдохновение из чистых источников.
Страшно… Что-то будет! что-то будет! спрашиваю я себя: все-то мы врознь! все-то мы разлезаемся! Судя по корреспонденциям «Волынца», помещаемым в тех же «Московских ведомостях», следует заключить, что «сепаратизм» до того овладел г. Костомаровым, что он собственную свою квартиру принимает за особое государство и там собственно для себя и на собственном своем языке сочиняет собственные свои буквари. И если примеру его последует г. Кулиш, то неизвестно даже, что может произойти! Самое малое, что может из этого выйти, — это то, что гг. Костомаров и Кулиш не поймут друг друга.
Но, по моему мнению, «Московские ведомости» все-таки недостаточно еще прозорливы; я прозорливее их, ибо усматриваю в русской жизни гораздо более «сепаратизмов». Назову некоторые из них.
Мещане имеют право производить известные промыслы и торговать в розницу шнурочками, на что крестьяне прав не имеют, — сепаратизм.
Купцы первой гильдии имеют право посылать за море свои собственные корабли (чем они, впрочем, пользуются с похвальною умеренностью), на что купцы второй гильдии и мещане прав не имеют, — сепаратизм.
Чиновники имеют право состоять на службе, на что огромное большинство населения Российской империи прав не имеет, — сепаратизм.
«Московские ведомости» имеют право прозревать, прорицать, догадываться и недоумевать, на что другие, менее прозорливые органы русского слова прав не имеют, — сепаратизм.
«Московские ведомости» собираются воспользоваться факультативной цензурой, тогда как прочие русские журналы и газеты правом этим ни под каким видом воспользоваться не могут, — сепаратизм.
«Московские ведомости» ставят «День» «под защиту Российской империи», а себя из-под этой защиты тщательно выгораживают, — сепаратизм.
«Московские ведомости» постоянно доказывают, что в Петербурге царствует «растленная атмосфера» и что только в Москве, и именно на Страстном бульваре, можно воистину насладиться «благорастворением воздухов». Ясно, что этим они стремятся отделить от Петербурга Москву вообще, и Страстной бульвар в особенности, — сепаратизм! Сепаратизм даже горший донского и костомаровского.
Если все эти сепаратизмы заговорят своим собственным языком и начнут сочинять свои собственные буквари — что может из этого выйти?
«Позволительно думать», что из этого не выйдет ничего.
А я пересчитал еще только миллионную часть российских «сепаратизмов»! Сколько есть таких людей, которые охотно стали бы употреблять в пищу говядину, но, вследствие стремлений к сепаратизму, питаются одним толокном? сколько есть таких литераторов, которые, подобно г. Феоктистову (см. письмо г. Касьянова в 16 № «Дня»), желали бы участвовать на первом рауте, бывшем прошлой зимой у какого-то «князя, истинного мецената», и между тем, вследствие стремлений к сепаратизму, на этом рауте не участвовали?
Впрочем, относительно г. Феоктистова я еще колеблюсь, кто тут сепаратист: он ли, бывший на «первом рауте у князя, истинного мецената», или прочие русские литераторы, на этом рауте не бывшие. По крайней мере, до сих пор (кроме славянофилов) я знал только одного литератора, которому рауты были не недоступны, — это именно фельетониста «Московских ведомостей» г. Пановского, который и разумелся за самого злого сепаратиста. Теперь к этой единице еще прибавляется цифра — боюсь, как бы из этого чего-нибудь не вышло!
Истинно сожалею, что г. Касьянов слишком мало распространился в своем письме об этом знаменитом обстоятельстве. Он позаимствовал сведения о нем из газеты «Весть», в которой, по всей вероятности, происшествие это рассмаковано во всей подробности, но о существовании которой, к прискорбию, никто в Петербурге не знает, а потому и справки навести негде. Господин же Касьянов рассказал это дело кратко: просто, был г. Феоктистов на рауте— и все тут.
Разумеется, меня это не удовлетворяет. Я желал бы знать, в чем был одет г. Феоктистов, какие были у него воротнички, на каком диалекте он объяснялся, как держал в руках шляпу и в какой мере походил на г. Пановского (это последнее сведение необходимо для определения силы «сепаратизма»). Одним словом, я хотел бы иметь портрет г. Феоктистова не в виде публициста, редактирующего «Русский инвалид», а в виде любезного человека, произносящего комплимент.
Тем не менее даже и это краткое известие весьма меня обрадовало, потому что в нем заключается зерно сближения между русской публицистикой и так называемым обществом. Это, конечно, все-таки сепаратизм, но уже сепаратизм полезный, имеющий в виду благотворную объединительную централизацию. Сначала оно, разумеется, как будто совестно; все кажется, что вокруг тебя говорят: вот человек! посмотрите, он в выростковых сапогах, он в замасленных перчатках, он в фуражке, он сморкается в фуляровый платок — и между тем это публицист, в руках которого участь миллионов людей ему подобных! но когда поосмотришься и попривыкнешь, то дело очень скоро войдет в свою обычную колею. Во-первых, тотчас же все убедятся, что на публицисте сапоги не выростковые, а лаковые, что в руках у него не фуражка, а шляпа, которою он очень ловко пользуется для изъяснения своих чувств, и т. д.; во-вторых, окажется, что ничьих судеб он в руках своих никогда не держал и не держит и что сам он просто чудеснейший малый — и больше ничего.
Да, надо, надо знакомить общество с русскими публицистами, и если бы я был человеком денежным, то каждый день приглашал бы к себе публицистов кушать: вы, дескать, меня будете просвещать, а от меня станете заимствоваться благовоспитанными манерами! И пошло бы у нас это дело колесом.
Во всяком случае, я решительно не постигаю, что может в этом обстоятельстве возмущать добродетельного, но непрозорливого г. Касьянова? Повторяю: я очень хорошо понимаю, тут есть сепаратизм, но если представить себе, что примеру г. Феоктистова последует сперва г. Краевский, а потом, быть может, и сам г. Касьянов (если же он славянофил, то я уверен, что он еще прежде г. Феоктистова посещал рауты и что у г. Пановского можно даже найти подробные об этом сведения), то мало-помалу литература до того объединится с обществом, что скоро мудрено будет даже отличить литератора от прохвоста…
Итак, это знак добрый, и хвала г. Феоктистову, положившему начало сближению русской публицистики с русским обществом. И я уверен, что он поступил в этом случае целесообразно и осмотрительно, то есть был одет как следует и был достаточно мил, чтобы обворожить всех дам своим истинно публицистским обхождением…
Самозванство всегда было одною из самых характерных черт собственно русской национальности. Если припомнить всех лже-Дмитриев и лже-Петров, которые некогда свирепствовали на Руси, и всю кутерьму, которую они наделали, то можно дойти даже до восторженности: вот до какой степени русский человек способен. Но так как гг. Семевский, Есипов и другие собиратели русских исторических анекдотов свидетельствуют, что эта способность все-таки пагубная и никогда своих обладателей к добру не вела, то из этого следует заключить, что пора нам одуматься и решиться называться каждому своим собственным именем.
Тем не менее способность эта осталась за нами и по настоящее время, и в особенности прижилась в русской литературе. Стоит появиться г. Костомарову (Н. И.), известному историку, обвиняемому «Московскими ведомостями» в сочинении своих собственных букварей, как рядом с ним возникает лже-Костомаров (Всеволод), известный своими трудами не столько по части истории, сколько по части политической токсикологии. Одним словом, ни один писатель не может безнаказанно выступить на литературное поприще, чтобы не подвергнуться опасности встретить себе созию.