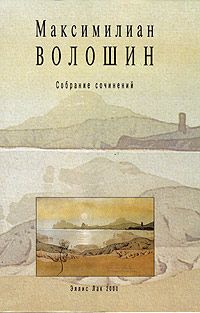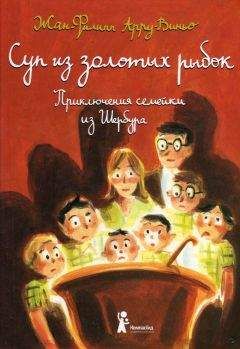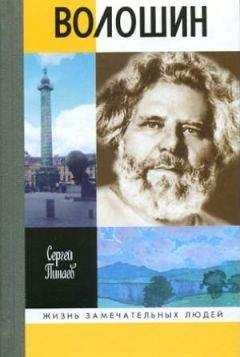Таким образом, мышка-пророчица, певшая на ладони Бальмонта в детстве, мышь, изваянная Скопасом под пятой Аполлона, мышь, беготню которой во время бессонницы слышали и Пушкин, и Бальмонт, и Верлэн, мышь, внушающая безотчетно-стихийный ужас многим людям, она явилась нам теперь как олицетворение убегающего мгновения. В ней сосредоточены та непримиренность и грусть, которые лежат на самом дне аполлонова светлого сна.
Мы держим конец нити в руках, и сложный клубок символов начинает распутываться.
Существует небезызвестная детская присказка о курочке, снесшей золотое яичко, в которой мышь является в обстановке несомненно аполлинической, но в новой и неожиданной роли.
Жили были дед да баба,
Была у них курочка ряба.
Снесла курочка яичко,
Не простое яичко – золотое.
Дел бил, бил, не разбил,
Баба била, била, не разбила,
Пробежала мышка,
Хвостиком вильнула,
Яичко упало
И разбилось.
Дед плачет, баба плачет,
Курочка кудахчет:
«Не плачь, дед! Не плачь, баба!
Я снесу вам яичко другое:
Не золотое – простое».
Несомненно, что золотое яичко (уже по самому свойству металла, из которого оно сделано) является даром Аполлона. И никакими человеческими усилиями ни деда, ни бабы это золотое сновидение не могло быть разбито.
Но достаточно было, чтобы появилась мышка, вильнула хвостикам, и яичко упало и разбилось.
Каким образом и почему здесь мышь является победительницей Аполлона?
И что значит это странное утешительное кудахтанье курочки: «Я снесу вам яичко другое: не золотое – простое»? Точно это простое яичко должно чем-то оказаться лучше прежнего, чудесного, золотого… Чтобы разрешить эти вопросы, надо обратиться к родникам аполлинийской поэзии.
Горькое сознание своей мгновенности, своей проходимости лежит в глубине аполлинического духа, который часто и настойчиво в самые ясные моменты свои возвращается к этой мысли.
Каждая великая радость таит на дне своем грусть. Больше: вся полнота аполлинийской радости постигается лишь тогда, когда ей сопутствует грусть. Об аполлинийской грусти можно говорить с таким же правом, как об аполлинийской радости.
Воистину мудр лишь тот, кто строит на песке,
Сознавая, что всё тщетно в неиссякаемых временах
И что даже сама любовь так же мимолетна,
Как дыхание ветра и оттенки неба.15
Тот же самый радостный и надрывающе-грустный мотив звучит, точно трещина в хрустальном сосуде, во все по преимуществу радостные, творческие, аполлинийские эпохи человечества.
Он звучит и в эллинской лирике у Сафо и Анакреона, и в песнях александрийца Мелеагра, он звучит и в итальянском кватроченто, и в песенке, сложенной Лоренцо Медичи,16 и в Весне Боттичелли,17 и в грустном Пане Лука Синьорелли,18 его мы найдем и у Ронсара, и в золотистых закатах Клода Лоррэна, колосьями пышного фейерверка он рассыпается в Венеции XVIII века, он настойчиво повторяется во французской старой музыке у Гретри и Рамо, он в заключительной строке «Онегина»: «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина…».
Я не стану искать образцов аполлинийской светлой печали у поэтов всех стран и веков, а остановлюсь только на творчестве того, кто в наши дни является самым высоким и самым полным воплощением чистого аполлинического искусства. Я говорю об Анри де Ренье.
Его стихи и его юношеская книга рассказов «La canne de jaspe»[66] дадут нам обширный материал символов, образов и олицетворений, в котором мы найдем все оттенки для выражения отношения аполлинийской поэзии к мгновению.
Вот стихотворение, которое А. де Ренье предпосылает своей книге стихов «Медали из глины».
Снилось мне, что боги говорили со мною:
Один, украшенный водорослями и струящейся влагой,
Другой с тяжелыми гроздьями и колосьями пшеницы,
Другой крылатый,
Недоступный и прекрасный
В своей наготе,
И другой с закрытым лицом,
И еще другой,
Который с песней срывает омег
И Анютины глазки
И свой золотой тирс оплетает
Двумя змеями,
И еще другие…
Я сказал тогда: вот флейты и корзины –
Вкусите от моих плодов;
Слушайте пенье пчел
И смиренный шорох
Ивовых прутьев и тростников.
И я сказал еще: Прислушайся,
Прислушайся,
Есть кто-то, кто говорит устами эхо.
Кто один стоит среди мировой жизни,
Кто держит двойной лук и двойной факел,
Тот, кто божественно есть Мы сами…
Лик невидимый! Я чеканил тебя в медалях
Из серебра нежного, как бледные зори,
Из золота знойного, как солнце,
Из меди суровой, как ночь;
Из всех металлов, которые звучат ясно, как радость;
Которые звучат глухо, – как слава,
Как любовь, как смерть;
Но самые лучшие сделал из глины
Сухой и хрупкой.
С улыбкой вы будете считать их
Одну за другой.
И скажете: они искусно сделаны;
И с улыбкой пройдете мимо.
Значит, никто из вас не видел,
Что мои руки дрожали от нежности,
Что весь великий сон земли
Жил во мне, чтобы ожить в них?
Что из благочестивых металлов чеканил я
Моих богов,
И что они были живым ликом
Того, что мы чувствуем в розах,
В воде, в ветре,
В лесу, в море,
Во всех явлениях
И в нашем теле,
И что они, божественно, – мы сами…
Сдержанная стыдливость, свойственная поэзии Анри де Ренье, не дозволила ему назвать по имени Эроса, того бога, который стоит один посреди мировой жизни, сочетая в себе любовь и смерть: двойной лук и двойной факел, и кто божественно есть – мы сами. Здесь передано то сознание, что весь великий аполлинический сон земли живет в нас для того, чтобы ожить в наших творениях, что все лики, которые мы чеканим в своих медалях, являются только преломленными отражениями его невидимого лика, неизреченно тождественного с нашим внутренним я.
Этот немой бог неотступно требует исполнения своих велений и безжалостно карает тех, кто безрассудно оскорбил святыню божественно ниспосланного мгновения. Женщина у лесного ключа протягивает путнику «Неожиданную чашу» и говорит такие слова:
«Прохожий, прими эту чашу из моих рук. Хрусталь ее так прозрачен, точно она сделана из той воды, которую заключает он. Пей из нее медленно или быстро, как велит тебе жажда. Долго ты шел сюда, и поэтому меня встретил. Я боюсь дня. Только вечерние путники видят меня. Если волосы мои еще пышны и красны – это осень украсила их. Румяна делают мое лицо похожим на плод слишком спелый. Не смотри на мое лицо. Пей и отверни голову. Если вода освежила тебя, будь благодарен ключу. Присядь на камень и помолись нимфам, которые живут здесь. Не принимай меня за одну из них, но узнай, кто я. Рассказ мой не будет напрасен, и ты узнаешь из него одну из тайн счастья и, может быть, истинный смысл любви. Слушай меня, не подымая глаз, а когда я кончу, ты меня не увидишь больше. Тень растет быстро; и я буду входить в нее по мере того, как она будет вырастать.
Каждую осень перелетные птицы пролетали над городом, в котором я жила. Немного дней спустя после их отлета умер друг, которого я любила.
Мы не сразу полюбили друг друга. Наши дома стояли рядом. Я пряла, и шум колеса сливался с воркованьем голубей. Он приходил каждый день. Он стал всей душой моей. Он знал это, и мы говорили обо всем. Все ключи моих помыслов я отдала ему, и так мы жили вместе, угадывая самих себя. Но уста наши, которые говорили всё, никогда не соприкасались. И его губы медленно бледнели. Улыбка его стала грустной, но оставалась кроткой, и если бы она не сбежала с его умирающего лица, я никогда бы не познала непоправимую вину своего преступления, своего безумия.
Увы! я узнала слишком поздно, что оскорбляла ненужными дарами его ожидание. Кому надо было согласие наших мыслей? Разве есть что-нибудь в душе женщины, чего бы не существовало в уме мужчины? Ах, почему отказывала я ему в ласках, почему не оживила я своим дыханием таинственную статую, которую ощупью изваяла наша любовь? Ах, как он ждал в молчании, затаив свое желание, и я не поняла немой мольбы его уст, которые коснулись моих лишь мертвыми. Он не познал свежести моей кожи и аромата моей красоты. Нагая я жила лишь в его снах и там оставила свой след, подобный отпечатку тела на песке.
О пески! Пески, пески Стикса, черные пески вечных отмелей, скоро вы укроете мой сон, когда я спущусь к вашим берегам. Жизнь моя скоро кончится. Я прожила ее изо дня в день в ужасе искупления моей вины. Чтобы наказать себя за глупый и невольный отказ, свое тело я отдала грубым рукам прохожих. Их было много, испивших от даров моего раскаяния. Были среди них отяжелевшие от вина, которые поцелуи смешивали с головокружением своего опьянения; другие, голодные воздержанием, насытились от плодов моих грудей. Одни случайно обнимали меня, отдаваясь мгновенному капризу, другие истощали на мне цепкость своего упорства. Я удовлетворяла и поспешности страсти, и ожесточениям чувственности.