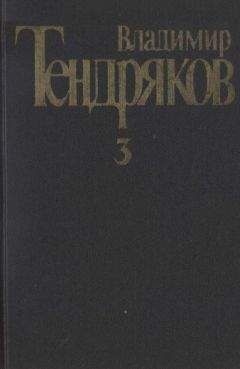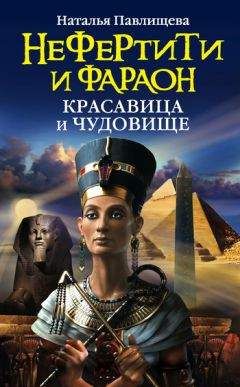— Стоп! — оборвал Чернышев. — От плаката тоже — ни пива, ни раков, а я стою за плакат, не за пивнушку.
— Не-ет, от плаката выгода! — закричал Православный. — Да, да, самая прямая, самая утилитарная. Твой парень своим молотком, как гвозди, забивает в головы простаков идейки!..
— Вот тут-то ты и попался. Идейки?.. А твой храм Христа Спасителя создан для простого созерцания? Тоже для идей. Весь вопрос — чьи идеи лучше, значительнее. Ты за какие идеи, Христова душа? За старые, храмовые? Вряд ли, не поверю.
— К черту идеи храма! Он мне сам важен. Сам! Его форма!
— Переплет книги, а не сама книга?.. Вернись с небес, ангел милый, вспомни, о чем начался спор. За тему меня упрекал. Тема еще не форма…
И в это время, как глас божий, со стороны раздалось восклицание:
— Врешь, Вече! Тема — форма! Зародыш ее.
В дверях стоял Лева Слободко, в чаду баталии никто не заметил, как он вошел. Слободко сменил китель с лейтенантскими погонами на кофейного цвета костюмчик, жмущий под мышками, круглое, розовое, как только что вынутый из печи каравай ситного, лицо празднично, — видать, Лева приготовился веселиться, пришел подбирать компанию.
Лева Православный с воплем бросился к нему:
— Понимаешь — утилитарист! И гордится этим!
— Тема — эмбрион формы, Вече, — сказал Слободко.
Вячеслав Чернышев привстал с койки и раскланялся:
— Снайперский выстрел, убит наповал. Прикажете верить на слово?
— Тебе сегодня поставили бутылку, так сказать, задали…
— Тему, — подсказал Чернышев.
— Именно тему и… форму. Форму, друг настырный. Рисуй бутылку, а не корову на поле, не тигра в джунглях…
Православный выплясывал в тесном проходе между койками, натыкался на Федора, на тумбочку Ивана Мыша, вопил:
— Обожди, Левка! Не лезь, старик, со своими коровами!.. Этот демагог оторвался сейчас от главного, от своего убогого утилитаризма!..
Но Лева Слободко уже входил в раж, потрясал кулаком:
— Великий Ван-Гог в своих письмах сказал…
— Может, ты обопрешься на авторитет, который и я в достаточной степени уважаю?..
— Ты не уважаешь Ван-Гога?
Шум, гам, потные лица, толкотня, с разных сторон, как снаряды, слова: утилитаризм, реализм, модернизм, форма, экспрессия, Ван-Гог! Разгорался великий студенческий спор — один из тех, о существовании которых и не подозревал Федор.
В два часа ночи Лева Слободко снял тесный пиджачок, остался в одной рубашке, а Лева Православный начал громить подвернувшегося случайно под руку «Жан-Кристофа» за интеллигентность, за отрыв от народа.
Иван Мыш, человек уравновешенный, лежал на койке, накрывал голову подушкой, молил со стоном:
— Заткнитесь же наконец! Скоро светать начнет… Православный, сукин сын, чтоб тебя холера взяла — вопишь, башка раскалывается.
В три часа Чернышев ломал вдребезги искусство Модильяни, а Лева Слободко, бледный от ненависти, хватал Чернышева за грудки:
— Ты — консерватор! Ты — мещанин! Таких вешать на первом столбе!
— О господи! — слабо стонал Иван Мыш.
Федор молчал, но жадно слушал, не пропускал ни слова.
В четыре утра попытались лечь спать, но опять вспомнили о нуждах парода и о гнилой интеллигенции, которая их не понимает, и опять «Жан-Кристоф» вошел клином. И Лева Православный, стоя во весь рост на койке, разразился длиннейшей уничтожающей речью.
Чернышев, внимательно слушавший его, решился на неправдоподобно дерзкий вопрос:
— Слушай, а ты читал «Жан-Кристофа»?
Православный смущенно сопанул носом:
— Не читал, ну и что ж? Ведь о принципах спорим…
И тут взвился Иван Мыш, плаксиво взревел:
— Убью! Не читал!.. Он не читал!.. А уже четыре часа!.. До четырех часов мучает!
Он схватил Православного, в воздухе мелькнули заношенные кальсоны, взвизгнули пружины на койке — Иван Мыш вдавил Леву в тощий матрац.
Чернышев, Слободко, Федор долго стонали от смеха. Лева Православный сконфуженно притих.
А за окном голубел в торжественной утренней тишине город. Шумно завозились воробьи под карнизом крыши, бранчливо заспорили, тоже, видать, о своих высоких воробьиных материях.
Вячеслав Чернышев, укладывавший рядом с собой недавнего яростного врага Слободко, который жил где-то у Сокольнического парка, заглянул в окно и присвистнул:
— Глядите-ка!.. Зря спорили — все мы не правы!
На месте старого плаката висел новый: «Пейте Советское шампанское!» Гигантская, словно черная башня, бутылка и тучные гроздья винограда скоро будут дразнить проснувшихся жителей, сидящих все еще на хлебных карточках военного времени.
11
Члены приемной комиссии вокруг круглого стола. Среди них старый знакомый Федора — Валентин Вениаминович Лавров. Никакой торжественности — стол не покрыт сукном, члены высокой комиссии изнывают от августовской жары. А за дверью, холодея от страха, ждут своей очереди поступающие.
Несколько ни к чему не обязывающих вопросов.
— Вы приняты, Матёрин.
Поворот налево кругом, отчеканивая шаг, вышел.
— Ну как?
— Сказали, что принят.
А из-за двери:
— Иван Мыш, ваша очередь.
У Ивана Мыша — губы в ниточку, с твердых плоских щек сбежал румянец.
Лева Православный бежал своей раздерганной походочкой по институтскому коридору — голова втянута в плечи, прижимает к боку папку.
— Беда, старик. Из всей нашей комнаты один Мыш Без Мягкого нокаутирован. Нужно срочно спасать.
— А разве спасти можно?
— Попробуем ковать железо, пока горячо.
— Я с тобой. У меня вроде неплохие отношения с Лавровым.
— Этот однорукий и загрыз нашего бедного Мыша. Он — вандал, старик. Бездушный вандал!
Перед дверью, за которой сидел этот бездушный вандал, Православный затоптался, косясь в сторону, загородил дорогу Федору.
— Ты извини… У меня — хитрый план. При свидетелях, старик, мне будет трудновато.
— Валяй. Я подожду. Но если нужна выручка, позвони.
За дверью Лева не пробыл и пяти минут, выскочил распаренный, смущенный еще больше.
— Что?
— Закинул удочку. Только бы клюнуло… — Замотал лохматой головой: — Эллинская Медуза, превращающая человека взглядом в камень. Бр-р-р, неприятно!
— Чего неприятного, за товарища хлопочешь.
— Ты веришь, старик, в провидцев, умеющих угадывать мысли?
— Не верю.
— А я вот поверил. Прочитал, негодяй, прочитал!.. Будем дежурить в институте. Или сейчас, или никогда! Мыш Без Мягкого где-то здесь ходит и, должно быть, твердит в душе: «Быть или не быть — вот в чем вопрос».
Но Мыш не декламировал из «Гамлета», — он уныло слонялся от одной двери к другой, при виде знакомых останавливался, смотрел по-собачьи прямо в глаза, вздыхал.
Жаль его, трудно выносить собачий молящий взгляд, невольно без вины чувствуешь себя виноватым, но — слаб человек — не в силах справиться с собственной радостью. Ты-то принят, тебя-то миновала чаша сия. И на двери мастерских смотришь по-особому, не так, как смотрел утром. Они твои, эти двери, эти мольберты за дверями, твой коридор, твои стены, и с теми, кто пробегает мимо, у тебя — равные права. Только подумать, был никем, просто поступающим, временной фигурой, теперь — свой, законный студент первого курса. При этой радости тяжело оставаться с глазу на глаз с молчащим, вздыхающим Иваном Мышем.
Ноги сами занесли Федора в мастерскую пятого курса. Он вспомнил о Нефертити. Он был эти дни все время рядом с ней и не видел ее, даже в суете, в тревогах — примут — не примут, сдаст — не сдаст — забыл о ней.
Надо найти ее и поклониться за все — именно сейчас, при этой победе.
Федор подставил стул к шкафу и принялся рыться — бумаги, пыльные холсты, пыльные слепки голов и рук. Он теперь хозяин, имеет право потревожить этот хлам.
Где-то здесь, сказал тогда Валентин Вениаминович.
Где-то здесь, не исчезла за эти годы. Все перевернет, а отыщет.
Нефертити стояла у самой стены и, как все кругом, была густо покрыта пылью.
И упало сердце, и охватил страх. Нет прежнего Федора Матёрина, он исчез, из окопов вышел другой человек. Он теперь иными глазами взглянет на забытые черты. Забытые — видел ее всего двадцать минут, эти двадцать минут стали вехой. Вдруг да не понравится, вдруг да не та, рухнет богиня, исчезнет добрый гений!
Может, не сейчас, может, отложить — не в час победы, не портить радости потерей.
Но он уже сдул пыль, поставил бюст — перед собой.
Вот она — мягко и смело описывают надбровья странные, удлиненные глаза. Она прежняя… Нежная линия скул стекает к маленькому подбородку…
Была царицей, жила в Египте, говорила на чужом языке… Не верится! Где-то ее встречал. Ждешь — вот-вот с губ сорвутся понятные слова, ждешь их, не веришь, что ей больше трех тысяч лет. Исчезла грань между мертвым и живым, между тысячелетиями и минутами — ждешь: оброни слово любящему тебя.