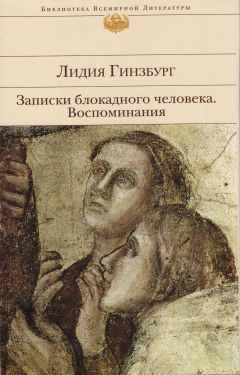Итак, после смерти тетки Оттер перебирает мысленно все перипетии их отношений за трудный блокадный год, все стычки, ссоры и скандалы. Идет трудная душевная работа раскаяния. И Лидия Гинзбург препарирует эту работу совести с глубиной бесстрастного исследователя и дотошностью психоаналитика, ищет причины приступов боли.
Многие люди способны оставить “свидетельства”. Но это чаще всего свидетельства событий. Голод, 125 грамм хлеба, дистрофия, бытовой кошмар, бомбежки. Рассказаны даже вещи, о которых вовсе не упоминает Гинзбург, — например каннибализм.
А что происходило с человеческой личностью, как деформировалась психика? Для того чтобы это описать, мало быть свидетелем. Надо еще проанализировать механизмы поведения человека, безжалостно препарируя его душевные реакции. А это уже требует понимания психической организации человека и виртуозного владения словом. Это мало кому под силу.
Лидия Гинзбург — жесткий и суровый наблюдатель. Но не забудем, что первый и главный объект ее безжалостного анализа — собственный душевный опыт.
В статье Эмили Ван Баскирк “Личный и исторический опыт в блокадной прозе Лидии Гинзбург”, вошедшей в приложения к книге, показано, что, несмотря на стремление Лидии Гинзбург избежать автобиографизма, “<Рассказ о жалости и жестокости>” легко проецируется на обстоятельства ее собственной личной жизни.
В 1942 году умерла мать Лидии Гинзбург, Раиса Давыдовна, в последние годы она жила с дочерью и находилась на ее иждивении. Характер ее близок к характеру персонажа, действующего в рассказе как Тетка. Да и вообще, как рассуждает Эмили Ван Баскирк, неистовая напряженность этих отношений, взаимозависимость, трагизм ощущения смерти куда больше подходят дочери, переживающей смерть матери и свою вину перед ней, чем племяннику, лишившемуся тетки.
Возможно, Лидия Гинзбург именно потому и не хотела публиковать рассказ, что явно стремилась в своей жизни избегать “самообнажения по принципу Руссо”, — делает вывод исследователь. Однако, по гипотезе Эмили Ван Баскирк, именно “<Рассказ о жалости и жестокости>” стал тем зародышем, из которого вырос “День Оттера”, впоследствии превращенный в “Записки блокадного человека”, — подобно тому как из рассказа о семейной драме Герцена выросла великая мемуарная книга “Былое и думы”, что доказывает сама Гинзбург, много лет отдавшая изучению Герцена. Тем не менее именно эту, слишком интимную часть мемуаров Герцен исключил из окончательного текста, она была опубликована много лет спустя после его смерти. По гипотезе Эмили Ван Баскирк, подобным же образом поступила и Лидия Гинзбург, оставив неопубликованной историю собственной семейной трагедии, которая оказалась для нее мощным творческим импульсом.
Если это и литературоведческая гипотеза, то она очень правдоподобна и элегантна. Во всяком случае, в разговоре о прозе Лидии Гинзбург без нее уже не обойтись. А тот факт, что один из наиболее страстных, напряженных и мастерски написанных своих текстов Лидия Гинзбург оставила неопубликованным, и в самом деле трудно поддается другому объяснению
Подобного самообнажения лишен текст, о котором было известно давно: “День Оттера”. Именно это “повествование”, написанное в период блокады, было в 1962 году подвергнуто переработке и превращено в “Записки блокадного человека”, которые, впрочем, так и не удалость тогда напечатать. Этот Оттер — тоже проекция автора, но следы автобиографизма здесь намеренно размыты, распылены, в соответствии с задачей обобщить в нем коллективный блокадный опыт.
Обнаружив этот текст в книге, я сначала испытала некоторое недоумение. Ведь если Лидия Гинзбург этот текст переработала в “Записки блокадного человека”, то она ясно выразила свою авторскую волю, и, стало быть, первый вариант известного произведения можно рассматривать как подготовительные материалы, черновик, и место ему в научном издании — именно в разделе черновиков. Но когда принимаешься читать “День Оттера”, внезапно обнаруживаешь, что это повествование четче структурировано, имеет ясную композицию — от пробуждения человека до ухода ко сну, не разбавлено отступлениями, энергичнее. Есть ощущение незавершенности, обрыва, — ну так почему бы не завершить? Что ж получается, неужели Лидия Гинзбург, перерабатывая свой текст, не улучшала его, а размывала четкую структуру?
История текста, изложенная составителями в приложении в книге, многое ставит на свои места и сама по себе драматична. Изучение архива позволяет понять, что небывало интенсивную военную работу над своими прозаическими текстами, в том числе и над “Днем Оттера”, после войны Лидия Гинзбург прекратила. Это можно понять: напечатать их не было никакой возможности, а проблемы социальной реализации стояли остро: Гинзбург уходит в науку и преподавание.
В 1962 году она возобновляет работу над “Днем Оттера”. Почему? Исследователи связывают это с ХХII съездом КПСС, второй оттепелью и публикацией солженицынского “Одного дня Ивана Денисовича”, пробившего, казалось, цензурную брешь. Но эта же публикация поставила Гинзбург в затруднительное положение: читатель, ничего не знавший о времени создания “Дня Оттера”, невольно проецировал бы повесть на “Один день Ивана Денисовича”. Сама Гинзбург, как историк литературы, указывала на другого предшественника — Льва Толстого и его замысел “История вчерашнего дня”. “Произведения десятками лет созревают или распадаются в письменных столах — неудивительно, что постепенно у них появляются предшественники <…> давно уже, как говорит С<аша> К<ушнер >, подменен весь литературный процесс”, — с горечью замечала она в “Преамбуле” к публикации (в ее первоначальной редакции).
И Гинзбург принялась переделывать повествование, вводя в него фрагменты, размывающие найденную форму. Внимательный читатель, сравнив оба варианта, может сделать собственный вывод о том, что было достигнуто на этом пути, а что — утрачено. Это — вопрос спорный.
Бесспорно же лишь одно: замечание Александра Кушнера (кстати, близкого друга Лидии Яковлевны и хранителя ее архива, вклад которого в этот проект отмечают составители) о “подмененном” литературном процессе как нельзя больше имеет касательство к прозе Гинзбург.
Подмененный литературный процесс, к сожалению, не подлежит исправлению. Мы можем только предполагать, что было бы, если б Горький отозвался в 1927 году на просьбу Платонова помочь с публикацией “Чевенгура” и ему бы это удалось, если б роман “Мастер и Маргарита” был опубликован в 1940 году, а “День Оттера” Лидии Гинзбург — в 1945-м. Возможно, раньше пошатнулась бы крепость соцреализма.
В записи 1943 года Лидия Гинзбург с поражающей трезвостью, интеллектуальным бесстрашием и горечью рассуждает о том, что современная литература — это “область совершенно условных значений, начисто отрезанных от реальности <…> ее просто нет как таковой, то есть как художественной деятельности. (Есть особая форма государственной службы…)”.
Ни на какое место “в области условных значений” она претендовать не хотела. И все же она не могла не думать о судьбе сделанного ею. В записной книжке 1943 — 1946 годов, в период творческого подъема и невероятной интенсивности, она заставляет уже знакомого нам Оттера, alter ego автора, размышлять над итогами собственных неудач, над тем, что “признание нескольких человек” (“лучших людей”) все же неполноценно, потому что оно основано на не включенном в “культурный контекст”, и эти “лучшие люди” все же не могут “проверить масштаб, охват его достижений”. Такие вещи проверяются не на “лучших людях”, а на “людях просто”…
Не смягчает горечь прижизненной неудачи и надежда на позднюю реализацию. “Но что такое это осуществление в конце длинного, горького, пустынного пути?.. Не слишком ли мало за десятки лет одиночества и обид?” Что до посмертного признания — то автору оно и вовсе кажется “издевательским”. Зачем же пишет в стол этот человек, обреченный на прижизненную неудачу, отнимая время и силы у других занятий, способных обеспечить социальную реализацию? Ответ такой: “Человеку может надоесть все, кроме творчества”.
Испытала ли Лидия Гинзбург в конце жизни чувство некоторого удовлетворения оттого, что ее проза наконец прошла проверку не на “лучших людях”, а “на людях просто” и оказалась включенной все же в некий культурный контекст, — судить трудно. Но, держа в руках толстенный, тщательно подготовленный и умно прокомментированный том прозы своеобразного писателя ХХ века, не оцененного современниками, нельзя не испытывать чувства удовлетворения оттого, что усилия в деле восстановления исторической справедливости все же не бесплодны.
[1]Гинзбург Л. Я. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека. Авторский сборник. —М., «Новое издательство», 2011.