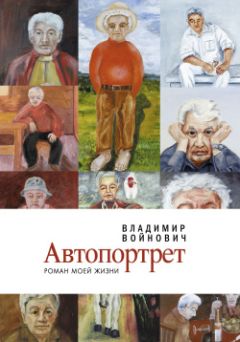Версия о том, что Максимов не оценил роман Гроссмана и чуть ли не заблокировал его публикацию на несколько лет, с подачи Войновича широко распространилась, хотя она опровергается простой библиографической справкой. Но читатель любит байки и не любит библиографию.
Другие бывшие друзья, удостоившиеся насмешливого рассказа Войновича, — Феликс Светов и Зоя Крахмальникова. С ними он тоже разошелся. Историю этого разрыва писатель излагает, иронизируя над Светами (как называл друзей), попавшими под влияние доморощенного проповедника и шарлатана. «Я более или менее представлял себе, как попадают под влияние главарей каких-нибудь религиозных сект простые темные люди, но как такое случилось с ними, молодыми, современными, образованными и не лишенными чувства юмора интеллигентами?» — недоумевает писатель.
Не хочу ломиться в открытую дверь и доказывать, что христианство — не секта и что цвет русской культуры и философии составляют отнюдь не атеисты. Но задача Войновича заключается не в том, чтобы разобраться, почему его друзья пришли к христианству, а в том, чтобы представить их обращение в комическом ключе. Для литературной завершенности сюжета надо показать невежество и глупость повлиявшего на друзей шарлатана, что Войнович и делает без труда, сочиняя диалог, где сам он выглядит ироничным и умным, а его собеседник, любящий лечить молодых женщин наложением рук, — сластолюбивым мошенником, рассуждения которого бредовы, «абсурдны и смехотворны». Можно было бы и проглотить этот иронический рассказ, если б не упомянутое невзначай имя осмеянного персонажа: Женя Шифферс. И тут уж я усомнилась в достоверности эпизода.
В середине семидесятых Юрий Карякин дал мне прочесть роман Евгения Шифферса, предварительно заинтриговав разговорами о том, что есть такой совершенно гениальный человек: он и режиссер великий (едва ли не все начинания которого запрещались), и писатель яркий, но главное — глубокий философ, мистик, совершенно оригинальный мыслитель.
Сейчас, когда вышел двухтомник Евгения Шифферса (в 2005 году), когда проходят вечера его памяти, когда публикуются исследования «Театр Евгения Шифферса», где анализируются его запрещенные питерские спектакли, когда новаторский фильм Шифферса «Первороссияне», не просто запрещенный, а уничтоженный, восстанавливают по кусочкам и он становится событием Московского кинофестиваля 2009 года и темой ряда статей, а журнал «Знамя» печатает отрывки из книги Владимира Рокитянского «В поисках Шифферса»[4], полный вариант которой висит на сайте премии им. Андрея Белого, эпитет «гениальный» не кажется уже таким дерзким.
Дмитрий Веденяпин, откликнувшийся на публикакцию двухтомника яркой и сочувственной статьей в «НГ Ex libris»[5] и назвавший Шифферса «одним из самых ярко одаренных людей», которых он видел на свете, «может быть, самым одаренным», — вспоминает, что, прочитав роман впервые в рукописи, воскликнул: «Вот как надо писать!» Я не была склонна к восклицаниям, и текст меня скорее поразил, чем восхитил. В романе было всего слишком много — и биографические куски, и художественная реконструкция Евангелия, и философский трактат. Литература ли это? Я усомнилась. Но было ясно одно: незаурядность автора. Позже я слышала выступление Шифферса, где он говорил о театре Достоевского, не слишком считаясь с аудиторией и не подстраиваясь под нее, умно и страстно, может быть излишне щеголяя философской оснащенностью и свойствами памяти. Почему этот незаурядный человек, наглухо задвинутый советской властью, не оказался востребован и позже, когда возникла мода на «гонимых»? Думаю, тут дело и в личных качествах Шифферса, ставшего каким-то затворником, и в мистическом характере его философии. Можно ли представить себе, ну, скажем, Даниила Андреева на телеэкране? Олег Генисаретский, знавший и ценивший Шифферса, в предисловии к его двухтомнику замечает, что в какой-то момент мысль Шифферса, «оттолкнувшись от усвоенного им русского духовно-творческого наследия, переступила порог интеллигентски понятой культуры».
Допускаю, что Войнович, этого порога никогда не переступавший, просто не понял смысл рассуждений философа. Светов и Крахмальникова, кстати, разошлись с Шифферсом, дрейфовавшим в сторону буддизма и мистики Востока, и даже обвинили его в «прелести». Думаю, что противоречивая мысль Шифферса дает основания для целого списка и других обвинений. Но одно могу сказать с уверенностью: тот недалекий и неграмотный шарлатан, который осмеян Войновичем, никакого отношения к реальному Евгению Шифферсу не имеет, сочиненного писателем диалога просто не могло быть — уровень мысли не тот.
Этот пример хорошо показывает принцип, лежащий в основе воспоминаний Войновича. Отталкиваясь от того или иного факта, он превращает подлинное событие в рассказ, где от самого события может ничего и не остаться. Читать такие рассказы легко: они хорошо выстроены, язвительны, забавны и рассказчик в них всегда остроумец и молодец, торжествует над человеческой глупостью, трусостью, подлостью. И пока речь идет об армейских командирах, глуповатых редакторах, трусливых чиновниках, имя которым — легион, мы их легко проглатываем. Писатель занимается своим делом: литературным вымыслом. И лишь когда писатель превращает в литературный персонаж реального человека, так или иначе нам известного, становится ясно, что к этим рассказам следует относиться с большой осторожностью. Войнович может не пощадить и близких друзей. И ладно бы, когда надо выбирать между Платоном и истиной. Чаще же всего получается, что писатель готов пожертвовать всем: и истиной и другом.
Вот, к примеру, рассказ, где действуют тоже реальные люди, и в частности близкий друг Войновича (тоже, разумеется, бывший) Олег Чухонцев. Речь идет о выступлении Андрея Битова и Олега Чухонцева в Америке в 1987 году, где их пути пересеклись с маршрутом Войновича, осуществлявшего, по случаю выхода своей книги «Москва 2042», рекламную поездку за счет издательства, не поскупившегося ни на дорогие гостиницы, ни на лимузин с шофером.
У Войновича, конечно, хватает чувства юмора поиронизировать над собой, разъезжающим в лимузине, но он не может отказать себе в удовольствии изобразить по контрасту Олега Чухонцева, «в черном кожаном пиджаке китайского производства, в польских джинсах и с сумкой через плечо с надписью латинскими буквами AEROFLOT», такого вот затрапезного советского туриста, который при виде лимузина, никогда им ранее, конечно, не виденного, «остолбенел и открыл рот», недоумевая, что же за люди ездят в подобном чуде техники. А тут и вылез — Войнович. И никакая ирония здесь уже не спасает от нечаянно выползшего наружу самодовольства.
Но главное, конечно, — описание выступления советских гостей, на которое явилось много разного народа, в основном эмигранты, ожидавшие правды о перестройке, а советские писатели скормили им вместо правды, по выражению Войновича, «свою мякину».
После выступления Чухонцева, рассказывает Войнович, он прямо сказал своему бывшему другу, что разочарован его враньем, а Чухонцев в ответ «начал лепетать что-то жалкое. Что никогда не был в Америке, а если будет прямо отвечать на задаваемые вопросы, его сюда больше никогда не пустят», и признался, что их инструктировали перед поездкой.
Зная неплохо Олега Чухонцева, с присущим ему чувством собственного достоинства, я понимала, что никакой «инструктаж» он бы не стал выполнять (скорей уж отказался от поездки), а стало быть, и не имел нужды ни оправдываться, ни «лепетать что-то жалкое». Но все же решила порасспросить Чухонцева, что он помнит об этой поездке.
Как я и предполагала, Чухонцев сказал, что весь его диалог с Войновичем — исключительно плод воображения мемуариста и никакого отношения к действительности не имеет. Никакого «инструктажа» перед поездкой не было, и каяться ему перед Войновичем было решительно не в чем. Говорил же Чухонцев ровно то, что думал.
А вот думал он, видимо, не совсем то, что хотелось бы слышать Войновичу. Странно только, что защищающий плюрализм мнений Войнович совершенно тоталитарным образом склонен оценивать чужое мнение не как чужое (с которым можно спорить), а как вранье. Чухонцев утверждал, что журнал «Новый мир» в настоящее время печатает то, что хочет. Войнович же считал это ложью, направленной против него лично.
«Если в России все хорошо и печатают вообще все или все достойное, это значит, что у меня тоже там все в порядке, что меня тоже там печатают, или то, что я пишу, как правильно утверждал Залыгин, не достойно того, чтобы быть там напечатанным».
История конфликта с Залыгиным тоже изложена Войновичем — несколькими страницами ранее. В марте 1987 года Войнович послал Залыгину, ставшему главным редактором «Нового мира», рассказ «Путем взаимной переписки», готовившийся к публикации в «Новом мире» двадцать лет назад. Письмо было корректное и дружелюбное. Рассказ «Путем взаимной переписки», на мой взгляд, один из лучших у Войновича. Комическая история младшего сержанта Ивана Алтынника, любителя заочной переписки, решившего во время командировки по дороге заглянуть к одной из своих многочисленных «заочниц» (оказавшейся не молодой женщиной, как на фотографии, а зрелой теткой с взрослым сыном), где его опоили водкой, насильно женили, и, как выяснилось, навсегда, оборачивается драмой разбитой человеческой жизни. Это как раз тот смех сквозь неведомые миру слезы, о котором говорил Гоголь, — и именно обобщающей силы рассказа скорее всего испугался Твардовский. Или, допустим, она оттолкнула его, советского народолюбца, усмотревшего в рассказе хулу простому народу, заставив начертать на верстке явно несправедливую резолюцию, остановившую публикацию.