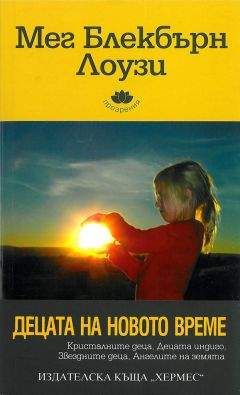Это открытие позволяет нам отделить фантастику от других литературных и внелитературных жанров, содержащих «элемент необычного» как жанрообразующую черту — от сказки, легенды, мифа.
Но необходимо провести водораздел и с другими жанрами. В начале этого очерка была упомянута книга Войновича «Москва-2042», которая по ряду признаков является фантастической, но на деле представляет собой политический памфлет. Войнович, как и все фантасты, выстраивает в романе «невозможный» хронотоп — мир несуществующей Москвы далекого будущего. Но роман, несомненно, не является фантастическим — это верхним чутьем улавливают и фэны, и издатели. Войновича или Пелевина уверенно относят к мэйнстриму, и Олег Дивов совершенно зря недоумевает по этому поводу. Критерий, по которому критики и издатели почти бессознательно проводят селекцию, настолько очевиден, что его не замечают. Чтобы яснее это различить, обратимся к истокам жанра: книге сэра Т. Мора.
Сэр Томас Мор знать не знал, что основывает новый жанр — он думал, что сочиняет политический памфлет. Но давайте обратимся к тому, как этот памфлет построен.
Первая часть называется «Беседа, которую вел выдающийся муж Рафаил Гитлодей, о наилучшем состоянии государства, в передаче знаменитого мужа Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона». Мор начинает с абсолютно реалистического описания своего путешествия в Брюгге и встречи там с неким Петром Эгидием из Антверпена. Очень дотошно и обстоятельно Мор описывает во всех деталях, как Эгидий знакомит его с Гитлодеем в храме Девы Марии при большом стечении народа, и как они отправляются в сад при доме Мора, где и начинают свои беседы. Начинают они с того, что долго и нудно обсуждают порядки в Англии и других странах Европы, в которых Мор, будучи дипломатом, прекрасно разбирался. Мору все это нужно для того, чтобы композиционно уравновесить разумность государственного устройства и законов Утопии безумием устройства и законов Европы, но нас сейчас интересует не это. Я хочу сосредоточить ваше внимание на том, что первая часть книги Мора начисто лишена какой бы то ни были иносказательности. Единственным элементом художественности в ней являются вымышленные собеседники Мора. При этом даже выдуманные образы являются автологичными.
Тут, кажется, нужно сделать техническое отступление на тему, что такое автология и металогия. Автоло?гия (от греч. αὐτός — сам и λόγος — слово; букв. — «самословие») — употребление в поэтическом произведении слов и выражений в их прямом, непосредственном значении. Художественная автология противостоит металогической, или фигуральной, речи своей реалистической точностью.
Металогия (от греч. μετά — через, после, за и λόγος — слово, речь) — напротив, употребление слов, а также образов и символов в их переносном значении.[1]
Образы, созданные Мором и в первой, и во второй части книги равны самим себе. Утопия, её столичный город Амаурот, её правители и жители, законы и обычаи — не символизируют и не означают ничего сверх себя самих: это голая иллюстрация к представлениям Томаса Мора о том, какое государственное устройство является наилучшим. Даже символика имен и названий у Мора совершенно прозрачна: «Утопия» — «место, которого нет», «Амаврот» — «непознаваемый», «Гитлодей» — «знаток пустых бесед», «Анидр» — «безводная», сиречь несуществующая река. Все топонимы, выдуманные Мором, просто указывают на то, что таких мест, людей и народов нет, и верить в их существование глупо.
Сравним это с другими политическими памфлетами, которые написаны по законам утопии — например, памфлетами Дж. Свифта. Со школьных лет нам известно, что соперничество между Лилипутией и Блефуску намекает на вражду Англии и Франции что остроконечники и тупоконечники — это католики и протестанты, что Лангден — это анаграмма слова England, то есть «Англия». Если топонимы и этнонимы Мора указывают на то, что описываемого им не существует в природе — то топонимы и этнонимы Свифта служат указателями на страны, личностей и обстоятельства реально существующие. Иными словами, памфлеты Свифта металогичны.
Вот здесь, осмелимся утверждать, и проходит водораздел между тем, что называется фантастикой и тем, что называется «большой литературой» или «мэйнстримом». Сочетание, которое само по себе кажется достаточно невозможным: автология и «невозможный» хронотоп, сотворили жанр фантастики, можно сказать, на ровном месте. Специфическая поэтика жанра заключена именно в этом: в повествовании о вещах несуществующих и невозможных с той же простой и внушающей доверие миной, с какой герой Мора по имени «знаток пустых вещей», поболтав о реальных политических делах Европы, нечувствительно переходит к делам несуществующего острова с его непознаваемой столицей, стоящей на берегах безводной реки.
Несомненно, многие фантастические тексты созданы при помощи автологии как художественного приема, но являются по сути дела металогичными. Однако наивное восприятие не отличает художественную автологию от наивной, непроизвольной. Фантастический текст должен включать в себя возможность наивного прочтения. Если текст ее не включает — он с неизбежностью выпадает из обоймы жанра — как то на наших глазах случилось с текстами В. Пелевина и М. Веллера. Их тексты настолько кричаще металогичны, что за фантастику они сходили разве что в советские времена, когда все необычное в литературе могло спастись только в нашем гетто. Как только исчезла необходимость прятаться в гетто — жанр и эти писатели взаимно друг друга отторгли.[2]
Это произошло и с фантастикой Булгакова, и с орловским «Альтистом Даниловым», и с Честертоном, Кобо Абэ, Воннегутом, Аксеновым и многими другими.
Принятие автологии как второй жанрообразующей поэтической черты для фантастики позволяет наконец точно ответить на вопрос «почему фантастика пребывает в гетто „жанровой литературы“».
Во-первых, литературная критика со времен Союза пребывает в ужасном состоянии. Это самая загнанная область литературоведения, и количество непрофессионалов в ней превышает в ней все допустимые пределы. Критиков, подвизающихся в области фантастики и способных отличить художественную автологию от обычной, можно пересчитать по пальцам. Вместе с тем, среди критиков, особенно в эпоху постмодерна, живо убеждение, что заявленная, кричащая металогичность — есть неизбежным и обязательным признаком художественности. Она может быть совершенно пустой величиной, как в романах В. Сорокина — но сама по себе заявка на металогичность текста играет роль своеобразного пропуска, по которому то или иное произведение проходит в т. н. «большую литературу». Текст, который не претендует на металогичность с первых же строк, даже не предлагается к серьезному критическому рассмотрению.
Но если художественная автологичность является жанрообразующей чертой — то фантастика не может отказаться от нее и не перестать существовать как жанр. Таким образом, фантастический цех исторически обречен на ношение «жанрового» клейма, как была в свое время обречена комедия; и так будет до тех пор, пока не подвергнется пересмотру весь литературно-критический метод как таковой.
Эта ситуация усугубляется тем, что автологическая поэтика привлекает множество людей, просто неспособных создавать металогичные тексты — так верлибр привлекает тех, кто неспособен рифмовать. Множество фантастических произведений — дети духовной нищеты и умственной лени своих авторов, для которых автология не художественный прием — а всего лишь естественный прозаизм графомана. Такие авторы легко находят своих читателей: жанровые особенности фантастики притягивают людей, не умеющих прочитывать текст иначе как по верхам. Некоторая замкнутость нашего гетто имеет для тех и других свои положительные стороны: одни без труда и в больших количествах находят продукт по своему вкусу, другие в количествах находят потребителя. Ведь сами по себе методы утопии, ухронии и ускэвии легко воспроизводимы. Они как колесо: тяжело изобрести, но просто повторить, раз увидев. Ситуация в фантастике отчасти похожа на ситуацию с классическими жанрами японской поэзии: поэтические жанрообразующие черты настолько легко воспроизводимы, а круг тем настолько ограничен, что буквально провоцирует создание неисчислимого множества заурядных текстов — и вместе с тем является серьезным вызовом подлинному мастерству, которое постоянно рискует остаться нераспознанным.
Подводя итог этим размышлениям, хотелось бы найти что-то утешительное во всей этой ситуации. Поразмыслив, я нахожу утешительным сам факт сугубой хронотопичности жанра. Исследование хронотопа является одним из перспективных направлений в современном литературоведении, а это значит — однажды за исследование современной фантастики возьмутся люди, которых голым жанром нельзя будет напугать.